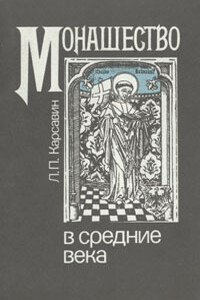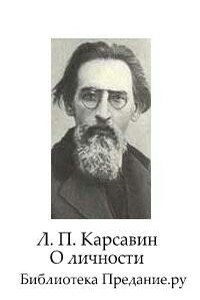Saligia. Noctes Petropolitanae | страница 31
Весьма достойно сожаления, что автор избрал такую, явно не соответствующую его способностям форму изложения, наивно недооценивая необходимость того, чтобы форма и содержание были адекватны и друг другу не мешали. В «Ночах» же форма, несомненно, мешает ясному развитию и убедительному обоснованию излагаемых в них мыслей. Она позволяет чаще и больше, чем следует, апеллировать к чувству и «таинственному постижению», за которым, может быть, ничего, кроме неразделенной страсти к поэзии, и не кроется. Не достигая художественной убедительности, автор не достигает и убедительности философской, и «гибридный» характер его сочинения делает чрезвычайно трудным и неблагодарным положение критика. Если критик укажет на художественную неприемлемость схоластики, автор может сослаться на свои философские задания; если критик направит свой удар на недостаточность философской аргументации, автор может защитить себя требованиями художественности.
Однако, несмотря на всю трудность положения, издатель позволяет себе сделать два-три замечания по существу. – Издатель чужд догматических и богословских склонностей автора. Тем не менее он готов усматривать некоторую ценность в жизненной постановке таких проблем как троичность: эта постановка позволяет видеть в отвлеченной догме символическое выражение некоторого реального факта, идеологическую надстройку. К сожалению, нельзя того же сказать о многих других рассуждениях, в которых автор остается чистым, далеким от конкретной жизни догматиком. Не убедительны и отвлеченно-диалектичны соображения о Софии, о связи ее с церковью, Девой Марией, о девстве Марии, ее андрогинизме и отношении ко Христу. Впрочем, издателю кажется, что упомянутые проблемы не разработаны и с диалектической их стороны: автор, по всей видимости, сам неотчетливо себе представляет взаимоотношение между разными Адамами, число которых издатель определить не решается. Во всяком случае, автору не вполне ясна проблема индивидуальности и совсем неясна идея искупления, о котором он говорит мимоходом. Столь важная для него теория «двуединства» или «четы» с полной убедительностью не обоснована, вызывая целый ряд вопросов и недоумений, касаться которых здесь неуместно. А между тем на этой теории строится вся его метафизика. С нею, в частности, связана и оценка христианства в смысле отрицания аскетического идеала. Нисколько не защищая аскетизма, следует, во имя справедливости, указать на непреходящие ценности, раскрывающиеся именно в нем: на своеобразную прозорливость аскетов, на проявляемую ими любовь к людям и миру, о чем автор говорит слишком поспешно. Большая вдумчивость избавила бы его от постановки таких нелепых и коробящих даже скептика проблем, как – «почему Христос не был женат?» (Он не формулирует своей мысли в этих словах, но мы передаем ее вполне точно.) Автор колеблется между полным оправданием мира таким, каков он есть, культом жизни и плоти, с одной стороны, и обоснованием своего романтического идеала любви, с другой. Он забывает, что в первом случае должно найтись место и аскетизму, а во втором нельзя говорить о полном приятии мира.