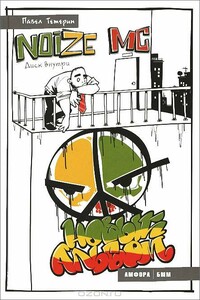Рассказы | страница 79
Я пьянела от всего вокруг и готова была проявить несвойственную мне уступчивость и простить Парижу то, что Сена вдвое уже Невы, мосты расположены слишком близко друг к другу, а вода в реке осенью темно-желтая. Будто Париж стоит на берегу Янцзы…
В сумерках знаменитая Эйфелева башня подсвечена так, что кажется смонтированной из светящегося ажурного материала: севший на грунт в центре Парижа огромный космический корабль-пришелец. Жилая пятиэтажная за-стройка девятнадцатого века едва достает до его нижнего отсека. В башне неустанно пульсирует и движется вверх-вниз кабинками лифтов грозная, чужая и непредсказуемая жизнь. Башня-ракета подминает под себя пространство и искажает его. Вблизи нее не действуют законы перспективы и топографии. Дворец Трокадеро, который находится на противоположной стороне Сены на вершине одноименного холма, оказывается где-то внизу меж ее опорных пилонов, а должен был бы выситься над ней. И если идти по зелени травяного поля в сторону Ecole Militaire и внезапно оглянуться, чтобы не дать башне прикинуться тем, чем она является на самом деле — детищем от счастливого брака по расчету между эстетикой и математикой, — башня так и увидится прозрачной ящеркой, каких можно лицезреть на стенах наших израильских домов в особенно знойные летние ночи, только не малюткой, а целым ящером — динозавром на четырех устойчивых, широко расставленных могучих лапах, с трапециевидной дырой живота, длинной нелепой шеей вместо туловища и колпачком на почти отсутствующей глупой головке. Вот и сейчас такси спускается с холма Трокадеро к Сене, и Эйфелева башня играет с нами в прятки: появляется то справа, то слева, а то — исчезает вовсе…
Роман с Францией — самый продолжительный из всех моих любовных романов. В нем присутствует все: ожидания, разлуки, недосягаемость, обожествление, надежды, встречи, разочарования, привыкание к иному, по сравнению с воображаемым, лику. Чем не роман?
Правда, присутствие в этой истории в качестве режиссеров-затейников авторитетных советских органов, долгие годы запрещавших девочке-сироте вместе с бабушкой, а затем и мне одной — уже взрослой — выезд из СССР, кладет серую тень досады на любовный трепет, описанный в предыдущем абзаце.
Все мое детство пропахло ароматом свежевыпеченных круассанов, которые ела на завтрак моя французская родня. Этот запах многократно усиливался, пробиваясь сквозь железный занавес. Он не оставлял сомнений: такие запретные сладкие рогалики могли созревать только в раю.