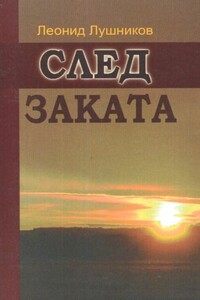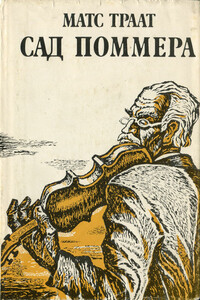Белая дыра | страница 82
— Дом — лес кругом, — с иронией отвечала жена.
Дни напролет Фома Игуанович играл на стареньком аккордеоне печальные мелодии. Другой бы, нормальный, мужик на его месте зверски запил, а, протрезвев, стал думать, как жить дальше. И что-нибудь да придумал бы. Но Фома Игуаныч на беду свою был человеком непьющим. Под испепеляющим, презрительным взглядом жены он играл себе и играл выматывающие душу мотивы и с изумлением думал: оказывается, не только профессия, но и сама его жизнь, вместе с этой прекрасной музыкой, никому не нужны. Внезапное открытие своей ненужности настолько глубоко поразило впечатлительного Игуаныча, что вскоре он и вовсе перестал играть. Просто сидел с аккордеоном на коленях и смотрел, как за окном облетают листья с рябины. Чем он отличается от одного из этих листьев? Вот так же за поколением поколение облетают люди, и так же становятся безымянной общей почвой. Бессмысленность человеческого листопада вводила в грех уныния. И, когда начались нескончаемые осенние дожди, Фома Игуаныч впал в глубокую депрессию.
Нет ничего тоскливее, безысходнее нудных ночных дождей глубокой осени в лесной деревушке, отрезанной от электричества и всей цивилизации, с размытой до полной непроезжести дорогой. Особенно для человека, лишенного к тому же женского тепла. Вот уже год, как жена не пускала Фому Игуаныча спать с собой.
Дом безработного учителя пения стоял напротив семилетней школы. Заброшенное здание, где еще недавно звенели детские голоса, где был сосредоточен весь смысл жизни, стремительно ветшало и на глазах рушилось. Особенно этот процесс усилился после того, как со школы содрали шифер. Рушился уютный, маленький мир, который так любил Фома Игуаныч. Высокие сосны, высаженные когда-то на субботнике вокруг школы, почернели от дождей, а многие вдруг засохли. На голые, терзаемые пронзительным ветром березы холодно было смотреть. Ветры дули со стороны кладбища и пахли близким снегом. Школьная ограда завалилась, и большая ее часть лежала в луже. По ней, как по тротуару, ходили угрюмые жители лесхоза, одетые в мрачные рабочие одежды.
Однажды Фома Игуаныч с печалью в сердце заглянул в учительскую. Потолок — серое небо — наискосок пересекала последняя, запоздавшая с отлетом стая диких гусей. Сквозь разбитые окна, повинуясь ветру, влетали и вылетали последние листья. Отсыревшая штукатурка отвалилась от стены, качнув покореженный сыростью портрет Менделеева. Портрет висел вниз головой, а на лбу великого химика было написано нехорошее слово. Фома Игуаныч снял портрет, попытался стереть ругательство, но тщетно. Он долго смотрел на освободившийся гвоздь, испытывая большой соблазн тут же на нем и повеситься.