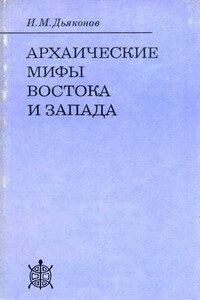Об истории замысла "Евгения Онегина" | страница 9
Новая форма удовлетворяла Пушкина: «от прозы меня тошнит», — пишет он Вяземскому 19 августа 1823 г. (XIII, 68), прося написать за себя прозаическое предисловие ко второму изданию «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника» (ср. также письмо от 14 октября 1823 г.). Работа над стихотворным романом о современнике спорилась в соответствии с замыслами Пушкина.
2. Додекабрьский план «Евгения Онегина»
Каков же был первоначальный план этого романа в стихах? Прежде всего надо совершенно отбросить предположение о том, что определенного замысла вообще не было. Повод, правда, дал сам Пушкин в заключительных строфах последней главы: «Промчалось много, много дней С тех пор как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явилися впервые мне — И план свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще неясно различал» (гл. 8, строфа L, беловик Ba; VI, 636; ср. с. 190).
Если верить этим стихам, роман был «свободным», план его был неясен, конец тоже; первой в замыслах явилась Татьяна, а уж «с ней» Онегин. Нарисованная Пушкиным картина относится к «поэзии», но не к «действительности». Байрон — тот, когда начинал «Дон Жуана», в самом деле не знал, куда он поведет героя{29}. Но такая техника была совершенно чужда и даже незнакома Пушкину. Вопрос о его планах довольно подробно разработан Б. С. Мейлахом, и он ясно показал, что план — весьма существенная фаза создания пушкинских произведений: «Целенаправленность замыслов Пушкина проявлялась, как правило, с самого начала»{30}. Поэт, от которого до нас дошли планы и предварительные записи почти для всех поэм, драм, повестей, даже для некоторых лирических стихотворений, не мог сделать исключения для своего главного, «постоянного» труда и начать его без ясного плана, без продуманного замысла от завязки до развязки. То обстоятельство, что план этот до нас не дошел, следует отнести к числу случайностей. Но его можно до известной степени реконструировать, экстраполируя данные о ходе рабочего процесса.
Б. С. Мейлах считает, что переломным моментом в развитии типа пушкинских планов была работа над «Борисом Годуновым». Но планы-наметки совершенно прежнего типа встречаются у Пушкина и после «Бориса Годунова», а более развернутые планы — и раньше (ср., например, планы стихотворений «Ты прав, мой друг» (II, 778), «Наполеон» (II, 707), планы драматического замысла 1821 г. «Скажи, какой судьбой»). Все зависит от конкретных задач плана. Например, если в поэме нужно было планировать только порядок хода повествования, то в развернутых драматических произведениях («Скажи, какой судьбой», «Борис Годунов», «Сцены из рыцарских времен») планировать надо было распределение мизансцен, и уже поэтому планы в том и другом случае не могли быть одинаковыми. Помимо общих планов бывали еще планы стихотворений или отдельных пассажей в более крупных произведениях (например, письма Татьяны). Но основным типом первичного плана большого произведения оставался один и тот же вплоть до 30-х годов, когда появляются планы более подробные. Приводим четыре плана более ранних, чем «Онегин», и четыре более поздних: