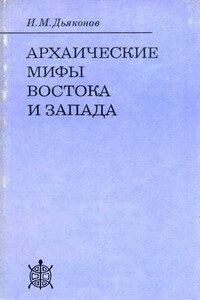Об истории замысла "Евгения Онегина" | страница 7
Сатирическая поэма в духе «ювеналовских строф» не состоялась; да и вряд ли Пушкин, веселый, отходчивый, мог бы долго придерживаться этой манеры письма. Из горькой, острой политической сатиры, от которой «затрещала бы» Дворцовая набережная, ничего не осталось, кроме устно передававшегося «ювеналовского» наброска. Однако сатира была унаследована в «Онегине», и не просто в силу инерции той же (или почти той же) системы рифмовки и того же стихотворного размера, инерции поэмы, строфически организованной, что в тогдашнем восприятии Пушкина было свойственно байроновскому сатирическому жанру. Сатира на жизнь частную в романе была неизбежна потому, что хотя Онегин — портрет типичного молодого человека времени Александра I, но портрет этот — развенчивающий героя, ибо он изображен
С его безнравственной душой,Себялюбивой и сухой,Мечтанью преданной безмерно,С его озлобленным умом,Кипящим в действии пустом{20}.
(Гл. 7, строфа XXII; VI, 148)
Именно такой герой, как мы знаем, единственно и привлекал внимание Онегина (второй вариант черновика этой строфы — VI, 438): мрачный, губительный для окружающих Мельмот Мэтьюрина, мечтательный Рене Шатобриана, презирающий светскую чернь, эгоцентричный, со скованной волей Адольф Констана{21} и, конечно, разочарованный жизнью, погруженный в себя наблюдатель общественных страстей Чайльд Гарольд и другие байроновские герои, — или же, вернее, сам Байрон, как он себя в них изобразил (гл. 1, строфа XXXVIII; см. черновики: VI, 217, 244, 307, 439){22}. Главной маской Онегина была маска байрониста (так же как и для Кавказского пленника до него); но в романе объектом сатиры является не сама лишь маска, а более глубокая эгоистичная, безвольная, зависимая от модных страстей сущность пушкинского современника. Конечно, здесь не «ювеналов бич», а лишь легкая ирония, но все же образ героя сатиричен.
Однако Пушкин в письмах к Дельвигу от 16 ноября 1823 г. и к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г. не только говорил об «Онегине» как о произведении, невозможном для цензуры, но во втором из них писал про себя, что «захлебывается желчью»{23}. Между тем написано это не только после 1-й главы, но и после 2-й! Где же желчь? Конечно, не в шутливом описании госпожи Лариной и ее соседей, и даже не в иронии по поводу пиитических восторгов Ленского, хотя последний в черновике смешнее, чем в печатном тексте (но и там описание его чтения вслух Ольге, углубления в патетического Шиллера перед дуэлью и предсмертные пародийные стихи звучат довольно насмешливо). Однако желчь предполагает озлобление, жажду литературного возмездия. Предметом для этого в романе мог к концу 1823 г. быть уже только