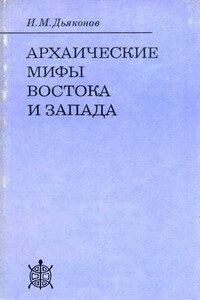Об истории замысла "Евгения Онегина" | страница 33
И все же есть еще одно косвенное доказательство того, что был замысел сделать Татьяну «декабристкой». Им является твердое убеждение жены декабриста М. А. Фонвизина, Н. Д. Апухтиной-Фонвизиной, в том, что именно она послужила прототипом Татьяны. Заметим, что позже она вышла не за кого-нибудь, а за И. И. Пущина, и он не разочаровывал ее в этой идее, а сам называл ее в разговоре и в письмах «Таней»{84}. В биографии Н. Д. Фонвизиной есть черты сходства с биографией Татьяны: вышла замуж за генерала, за нелюбимого, а любимого отвергла. Но слишком много и различий: Фонвизина была набожна, пыталась в пятнадцать лет бежать в монастырь, за генерала вышла потому, что он выручил отца из долгов. И хотя вполне вероятно, что она могла встречаться с Пушкиным в свете, нет данных о том, чтобы Пушкин был сколько-нибудь близкьо знаком с Фонвизиными{85}. Надо думать, что среди более или менее отдаленных знакомых Пушкина были десятки дам, вышедших замуж за генералов не по любви. Откуда же такая уверенность Фонвизиной? Не оттого ли, что общей ее чертой с Татьяной было то, что Фонвизина (как и Мария Волконская) последовала за мужем в ссылку? Но ведь это давало бы ей право считаться Татьяной только в том случае, если бы и Татьяна была по крайней мере задумана как «декабристка» и это было бы достаточно широко известно!
Надо думать, что Пушкин не одному сравнительно мало знакомому Юзефовичу рассказывал о планах последекабрьского продолжения «Онегина». Мужчины интересовались судьбой героя, женщины — героини. Обоим своим персонажам Пушкин, видимо, предназначал в годы своих оптимистических надежд судьбу, связанную с декабрьскими событиями. Если введение мотива тайных обществ (как мы предположили) должно было предшествовать кульминации — жертвенному отказу Татьяны от любви к нему ради нелюбимого мужа, то надо полагать, что именно муж Татьяны и через него сама Татьяна должны были быть замешаны в декабрьском движении. Так личные страсти вступали бы в трагическое противоречие с историческим долгом, которое решалось в пользу истории. Но даже в эпоху наибольшего оптимизма Пушкин не мог надеяться в романе, предназначенном для публики, послать Татьяну и ее мужа в Сибирь — нужно было выбрать место поближе. Муж Ек. Н. Раевской, М. Ф. Орлов («толстый генерал», подобно мужу Татьяны в черновике){86}, отделался кратким содержанием в крепости и высылкой в свое имение (вместе с женой), но это, конечно, был слишком пресный вариант. Однако не вполне ли реалистично было бы послать мужа Татьяны на Кавказ? И вслед за ним и Онегина, где он бы, согласно альтернативному воспоминанию Юзефовича, и погиб бы, скорее всего так и не став декабристом? Но тут мы вступили в область чистых домыслов. Ясно лишь, что в несостоявшихся главах романа завязывались бы в некий узел частные и исторические судьбы героев.