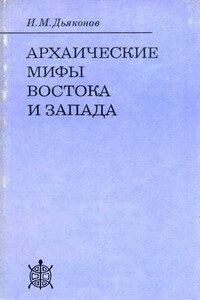Об истории замысла "Евгения Онегина" | страница 31
Мы предполагаем, что в нем должны были сначала развертываться какие-то события, связанные (может быть, косвенно, имея в виду надежды на опубликование) с декабрьским движением, а роковое расставание Онегина с Татьяной вытекало бы уже из них. Только такой вариант давал бы логическую связь «декабристских строф» в главе «Странствие» с последующим и не требовал бы скачка назад в композиции. Конфликт между страстью и долгом мог бы остаться и прежним и лишь быть перенесен в область, где вступают в действие также и исторические силы.
Можно, казалось бы, представить себе и иной вариант: сначала происходили бы события, соответствующие нынешней 8-й главе, включая встречу и объяснение Онегина и Татьяны (как известно, приуроченное Пушкиным к апрелю 1825 г.); это объяснение не было бы, очевидно, решительным; а лишь затем развивались бы какие-то совершенно новые события, и развязка давалась бы какая-то совсем другая, вовсе отличная от того, что происходит в дошедшем до нас тексте романа. Этот вариант не представляется вероятным потому, что он требовал бы прибавления еще добавочного конфликта к уже демонстрированному и решенному. Это был бы не конец того же романа, а новый роман-продолжение с теми же персонажами. Если же все это осталось бы в пределах одного романа, то создало бы композиционную асимметрию, глубоко чуждую и противную Пушкину. Но к этому вопросу мы еще вернемся.
Сейчас мы будем исходить из предположения, что «двенадцатиглавный» роман должен был развиваться по первому из приведенных нами вариантов. При этом крайне трудно предположить, что в последекабрьский период Пушкин отказался бы от иронически-сатирического отношения к Онегину и готовил бы ему героический апофеоз, вознеся его над Татьяной{80}. А если он такой апофеоз готовил, то еще труднее представить себе, каким образом, убедившись что «последекабрьский» роман не пройдет, Пушкин от ставшего героическим Онегина преспокойно вернулся к Онегину, герою «пародии» (см. набросок предисловия к главам 8—9){81}, которому он судил моральное поражение. Любая реконструкция замыслов Пушкина должна исходить из неизменности соотношения основных протагонистов, разрешаемого победой нравственно сильной Татьяны над нравственно слабым Онегиным: ведь дуэль, показавшая Онегина как мелкого и слабого человека, не исчезла бы ни в каком варианте продолжения романа.
Значит, даже если Юзефовичу не изменила память и Онегин действительно попадал в число декабристов, ему и среди них не было уготовано героической роли. Как известно, Пушкин, высоко оценивая мотивы декабристов, будучи готов выйти с ними на площадь, тем не менее считал их выступление исторически неоправданным. Да к тому же на периферии декабристской молодежи существовали и Удушьев Ипполит Маркелыч, и даже Репетилов. И из лиц, наиболее близких к Онегину по социальным и характерологическим чертам, ни А. Н. Раевский, ни П. П. Каверин, ни даже П. Я. Чаадаев не играли особо героической роли в тайных обществах. Итак, соприкосновение Онегина с тайными обществами или даже участие в них не должны были сделать из него героя: героиней — в смысле положительного начала в романе — конечно, как была, так и осталась бы Татьяна.