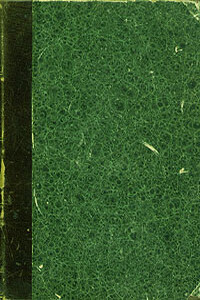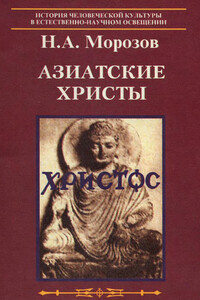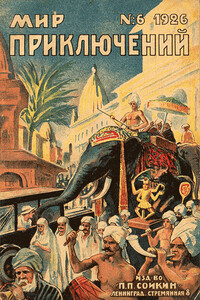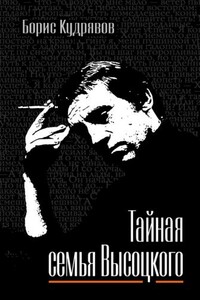Повести моей жизни. Том 2 | страница 95
Последняя сцена состояла в том, как заговорщика привели в наручниках в тюрьму и посадили в одиночную камеру.
Затем был изображен забавный допрос, производимый глупым следователем, неудачная попытка бежать через трубу и, наконец, освобождение его булочницей, подкупившей сторожей. Все было так живо представлено, заговорщик был изображен в таком интересном и симпатичном виде, а его преследователи так осмеяны, как будто спектакль давался специально в честь моего освобождения. Я сильно хлопал.
Отец сразу же понял, что сделал промах, выбрав для «отвлечения меня от заговоров» такую пьесу. Он сильно вертелся в своем кресле и несколько раз даже порывался увести меня, но сейчас же чувствовал, что это будет уже слишком наивно с его стороны, и потому сам через силу смеялся и даже хлопал и заговорщику, и сыщикам, так как пьеса действительно была прекрасно сыграна и тем, и другими...
Когда я описываю этот первый день своего освобождения в том виде, как я это сделал сейчас, я чувствую, что, несмотря на полную точность изображенных мною событий, впечатление у читателя должно получиться все-таки совершенно ложное. В самом деле, выходит, как будто я, едва переступив порог тюрьмы, кинулся в новую жизнь и сразу же позабыл весь год своего одиночного заключения!
Но ведь это возможно только в плохом романе, а не в действительности!
Все, что описал я здесь, фактически совершенно верно, но это картина еще не дорисованная, картина без фона. А фоном ее служило яркое, живое воспоминание о годе мучений; они были как бы припевом ко всему, что я видел, замечал, соображал. Я смотрел «Украинскую ночь» Куинджи, вспоминая свое хождение в народ, и вдруг мысленно говорил себе: «Как это удивительно, что за мной более не ходят сторожа и никто не готовится ловить меня, хотя я и иду теперь не по указанному мне месту!» Я рукоплескал артистам французской комедии и вдруг вспоминал, что всякий шум и крики строго воспрещаются по инструкции под угрозой карцера! Я смотрел на улицу в зеркальные, сплошные стекла наших окон и вдруг соображал: «А ведь в них нет решеток, и вид сквозь них совсем иной, чем сквозь тюремные окна!»
Таковы были постоянные аккомпанементы ко всему, что я видел и слышал и что я описал на последних страницах этого рассказа. Фоном всего описанного было внутреннее приподнятое настроение. Оно-то и делало меня таким впечатлительным, что если бы я не боялся утомить читателя, то мог бы исписать еще десятки страниц мелкими подробностями этого дня.