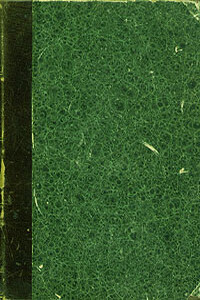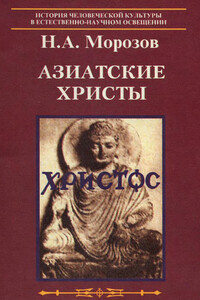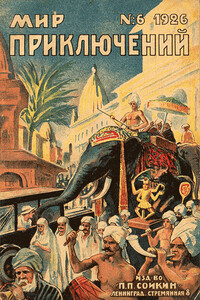Повести моей жизни. Том 2 | страница 68
Я сам не знаю, как у меня сложилось вдруг четверостишие:
Я записал его спичкой на стене камеры, и оно мне понравилось, но продолжать я не мог. От него стало еще хуже на моей душе.
Теперь я жил с вечным ожиданием сумасшествия и с леденящим душу предчувствием приближающейся ночи и обязательного кошмара со стариком, как только засну. Мысль, что я уже сошел с ума, все чаще и чаще стала навязываться мне.
— Ты уже сумасшедший! Ты уже сумасшедший! — постоянно нашептывал мне один из моих внутренних голосов.
Он прорывался сквозь все, о чем бы я ни думал, мешал всяким моим отвлеченным размышлениям или сочиняемым мною в уме фантастическим романам. Ни днем, ни ночью он не давал мне покоя. Это стало моей idée fixe[14].
Я думаю теперь, что у меня и действительно был тогда приступ острого помешательства, которое развилось бы в настоящее, если бы заключение без книг продолжалось еще несколько месяцев. Я помешался бы на том, что я сумасшедший, и что в припадке безумия я могу назвать своих товарищей, и что третьеотделенские шпионы услышат и запишут их имена по моему бреду.
«Лучше убей себя, — говорил мне один голос, — только не допусти до этого!»
«Но, может быть, я еще не совсем сумасшедший, — отвечал ему второй голос, который говорил от моего имени. — Может быть, я еще поправлюсь, может быть, меня еще успеют освободить! Я не хочу умирать! Самоубийцы — это жалкие, бессильные люди! Много ли их погибло на каком-нибудь геройском деле? Вот Ромео убил себя на могиле Джульетты, убил бесполезно, не принеся никому никакой пользы. Если бы я был в его положении и не мог жить после смерти любимого мною дорогого существа, то я выбрал бы себе другую, более славную смерть на каком-нибудь великодушном героическом подвиге, сделанном в память дорогой для меня души. Зачем умирать бесполезно на могилах, принося лишь отчаяние всем, кто нас любит? Самоубийца — это моральный и физический трус; он бежит из жизни, как обыкновенный трус бежит с поля сражения. Я не хочу быть беглецом, я хочу бороться до конца и не отдам судьбе без нужды ни одной секунды моей жизни, как бы тяжела она ни была».
«Но если бы твоя гибель была неизбежна, неотвратима, если бы ты убедился, что всякая борьба безнадежна, — зачем продолжать борьбу?»
«Для самой борьбы! — отвечал другой голос. — Потому что ведь вся наша жизнь — это борьба за жизнь. Для всех нас конец и без того неизбежен, мы не боимся же его в неопределенной дали, зачем же будем бояться вблизи? Нет, если бы меня стали даже вешать и петля была бы надета уже палачом на мою шею, то я и тогда счел бы малодушием броситься самому в нее, чтобы ускорить смерть. Хоть одна лишняя секунда жизни, сказал бы я себе, — но я ее не отдам им сам, не поддамся страху предстоящей смерти, потому что жизнь есть первая цель каждого сознательного существа, начиная от его рождения... Жертвовать своей личной жизнью можно только для спасения чьей-нибудь другой или, как теперь я, для торжества общечеловеческой жизни».