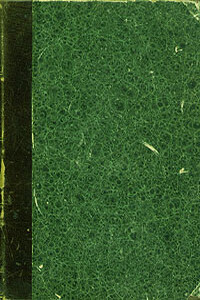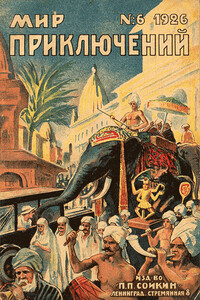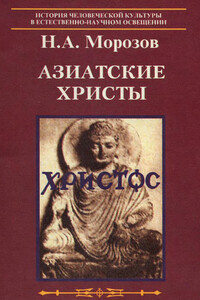Повести моей жизни. Том 2 | страница 37
Я тотчас же встал у самой двери и прислушался. Теперь я более не опасался, что меня начнут пытать.
«В частях только бьют, а не пытают!» — повторил я сам себе несколько раз для того, чтобы окончательно убедиться в своей безопасности в ближайшие недели.
И это подействовало.
Приподнятое, готовое сейчас же на всякую жертву и муку, настроение улеглось. Но разочарование стало тем сильнее. Ни в одном романе я не читал еще, чтобы героя сажали в часть, и, если я убегу отсюда, мне нечем будет гордиться. «Бежал из Коломенской части!» — это звучит совсем уже не так громко, как «бежал из Петропавловской крепости» или «из темницы Третьего отделения», где я сидел до сих пор. Нет! Куда хуже! Но все же надо попытаться и осмотреть местоположение!
Услышав, что за дверью тихо и в просверленное в ней круглое отверстие, закрытое сзади клапаном, никто не смотрит, я подставил табурет к окну и взглянул в него. Оно было без матовых стекол и с большой форточкой. Подо мной на значительной глубине был замкнутый со всех сторон небольшой дворик, и я смотрел в него из своего окна, как в колодезь. Там было пусто, лишь изредка проходили городовые. Вверху расстилалось серое небо, и, кроме неба, да дворика, да пустынного канала налево между стенами здания, ничего не было видно.
Я опустился и приложил ухо к стене за кроватью. Там раздавались по каменному, как и в моей камере, полу гулкие быстрые шаги: шесть назад и шесть вперед. Где-то далее перемешивались с ними более слабые шаги, и, наконец, можно было отличить еще совсем мелкие, очевидно женские, по восьми взад и восьми вперед.
«Это товарищи по заточению! — подумал я. — Как бы войти с ними в сношения?»
8. Тук, тук, тук!
Современный читатель, давно уже знающий, что во всех темницах политические заключенные перестукиваются друг с другом, едва ли поверит, что я, полгода действовавший со своими друзьями в Москве и почти полгода живший за границей, ничего и не подозревал об этом. А между тем это было так! Ведь это мы изобрели и ввели в практику перестукивание, хотя, может быть, оно употреблялось и до нас декабристами, петрашевцами и т. д.[9] Но они не оставили традиции, и мы должны были все изобретать самостоятельно и вновь.
До нас политические заключенные были так редки, что их можно было рассаживать далеко друг от друга и этим достигать полной изоляции. Никогда ни в России, ни за границей в наших многочисленных вечерних или дневных разговорах о заточенных не упоминалось в моем присутствии о их перестукивании, и никто из моих товарищей в Москве или за границей, по-видимому, и не думал о возможности такого способа сношений. Правда, в Петропавловской крепости стук уже практиковался почти целый год до моего ареста, хотя и своеобразным способом: там стены всех камер были обиты тогда толстым войлоком, чтобы узники в отчаянии не могли разбить себе головы о каменные стены, и стучать в них было невозможно. Но шаги узников были слышны даже через камеры, и заключенные сначала переговаривались там шагами, делая для «а» один шаг, для «б» два и так далее и останавливаясь на более долгий промежуток при переходе к новой букве. Так они в долгие томительные дни узнавали этим медленным путем фамилии соседей, положение следствия или делились с товарищами случайно добытыми новостями. Потом мало-помалу они условились друг с другом и об употреблении более удобной азбуки.