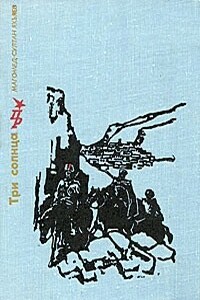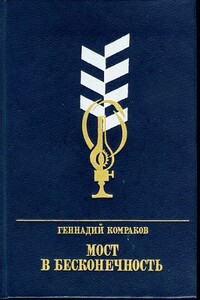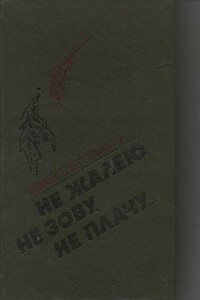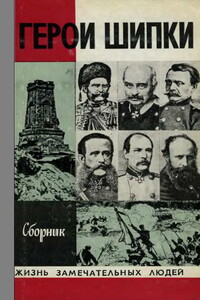Бремя выбора | страница 73
— За революцию с нечистой совестью браться нельзя.
Зарядил, как пономарь, — совесть, совесть. Упрямство Бедового, его настырность задевали Лукича. Бедовый будто упрекал хозяина, да не только словом — делом, вернулся же, охломон, наперекосяк всему, а ты, Хромой, вроде так не сможешь.
Лукич заговорил сурово, роняя слова веско:
— Ты чистый, значит, а другие, выходит, грязные. А если подумать и повернуть, на попа поставить да помозговать? Кое-что другое откроется, промежду прочим. Ящичек тот, скрыночку я твоему проходимцу сам отдал. Сидели вот как с тобой, водку пили, он слезы лил про свою нищету, а я вот так повернулся, — Лукич отставил ногу, стукнув деревяшкой по плахе пола, потянулся к иконам, — взял ее, на! Держи и уходи с богом. Не нужно мне такое добро, трясись из-за него денно и нощно. Вот теперь и скажи, Бедовый, была ли нужда тебе возвращаться? — Он осклабился, снова расправил усы, победу праздновал над Лубоцким. — Малое дело, сущий пустяк, а как все меняет. Вот что ты мне теперь наборонишь, если не было кражи?
— Навыдумывать, Яков Лукич, накрутить можно всякое.
— А чего тебе стоило так подумать? Отдал, мол, хромой стражник, грехи замолить — и вся недолга. Ты же грамотный, книжки читал, так бы и сказал по-писаному: добрая ноля Якова Лукича па пользу революции.
— Так ведь не было доброй воли.
— А тебе почем знать?! — поднял голос Хромой, — Была! Так себе и скажи: была его воля! И другому, пятому-десятому громогласно заяви, всем своим дружкам боевым — была на то его воля. И потому я чист. Ты мне все про народ да про народ, а разве я не народ?
— Плохую вы игру затеяли, Яков Лукич.
— А вы какую затеяли, хорошую? Может, я не хочу царя сымать, а ты вот за меня решаешь: такова воля парода. Давал я тебе наказ? Дарит тебе мужик свое, или ты у него крадешь?
Не так он прост, как может показаться, хотя и пьян. Думай, Лубоцкий, думай.
— Мы реалисты, Яков Лукич. Мы обязаны видеть подлинную необходимость. Выдумать можно всякое, попы всю жизнь рай обещают. Мы не попы. На выдумке одни страдания. Не было у вас нужды отдавать кому-то свое накопленное.
Хромой помрачнел, заскрипел зубами:
— Зачем вернулся?! — вскипел он. — Ты мне руки связал! Пригонят политического, я его на первом суку повешу! Зачем вернулся?! Уходи с глаз долой!
Лубоцкий посидел несколько мгновений оглушение, Ожидал, предвидел, но…
Сказал твердо:
— Я не мог поступить иначе. — Поднялся, пошел к двери за котомкой.
— Стой, — потребовал Лукич. — Обожди. — Лоб его покрылся испариной, он вытер пот ладонью, стряхнул кашли па пол. — Обожди, остынь… Не серчай… Садись, куда ты пойдешь, — устало говорил, хрипло, тяжело ему далась вспышка гнева. — Пойми, вора бы я скорей простил, па то он а вор, а вот политического… — Он еще налил в стакан, жадно выпил. — Все равно что девку совратил на святом причастии. Не серчай… И бежать никуда не надо, сгинешь сейчас, меня послушайся, я к тебе уважение имею, Бедовый. — Глаза его заблестели от пьяных слез. — Мне тебя жалко, Бедовый. Посиди со мной, тоска меня берет, поговори со мной про то, про се… — просил жалобно, с дрожью. — Как мне детей определять, на что равнять, скажи… Помру я скоро, Бедовый. — Он слабо поднял руки на стол, подпер голову, локти разъехались, он ткнулся головой в столешницу, помычал, подложил ладонь под щеку и заснул.