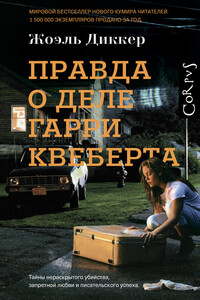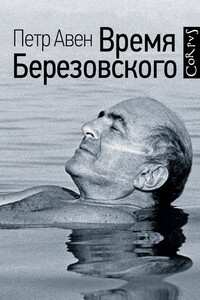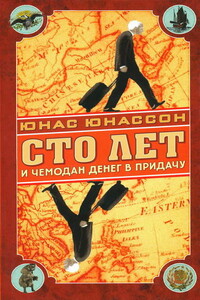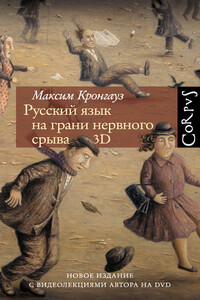Самоучитель олбанского | страница 30
Твой верный штап-ротмистр
Абаленской».
Здесь действительно имеет место не только нарушение традиционной орфографии, но и игровой характер этих нарушений. На игровой характер, по крайней мере, намекают фразы Сосед был, видимо, веселый и «Письма» князя, написанные необычайным языком, приносили Вильгельму радость и как-то напоминали детство или Лицей. Однако речь идет всего лишь о фонетическом письме, по-видимому сознательно — ради шутки — используемом образованным человеком. Иначе говоря, Оболенский пишет, как слышится.
Еще более близким, более глубоким и отчасти поразительным оказывается сближение жаргона падонков с заумью. Термин заумь (или заумный язык) был придуман Велимиром Хлебниковым и подхвачен другими футуристами и близкими к ним кругами, например Левым фронтом искусств (ЛЕФ). Заумь возникла в начале 1920-х годов и декларировалась как особый язык литературы, но в действительности конечно же языком не являлась. Речь шла о направлении, состоящем из разного рода литературных экспериментов с языком, то есть из модификаций («переделок») русского языка с целью достижения определенного художественного эффекта. Одной из целей было разрушение привычного фонетического (реже графического) облика, чтобы избавиться от привычного «бытового» значения слова. Важной была и идея самостоятельного формирования смысла через фонетический образ. Хлебников, экспериментируя с языком в одном из программных произведений «Зангези», фактически порождал значения звуков и букв. Хорошо известно стихотворение Алексея Крученых, демонстрирующее этот принцип:
Или Велимир Хлебников:
И еще Хлебников из «Зангези»:
К этим экспериментам мы еще вернемся, но видно, что и здесь аналогия с языком падонков весьма условна. Однако эксперименты с заумью не были чем-то единым и цельным, и некоторые из этих экспериментов представляют для сопоставления значительно больший интерес.
Самым удивительным является сближение жаргона падонков с творчеством Ильязда (псевдоним Ильи Михайловича Зданевича), известного деятеля грузинского, русского, а позднее и французского авангарда. Как и многие авангардисты, он экспериментировал с заумью, но с сегодняшним днем оказался неожиданным образом связан более других. И причиной этому стала написанная им пьеса. Здесь лучше обратиться к работам немецкого слависта Манфреда Шрубы, написавшего сначала словарь «Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов» (Москва: НЛО, 2004), а потом и дополнения к нему.