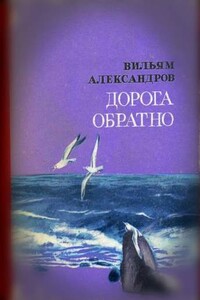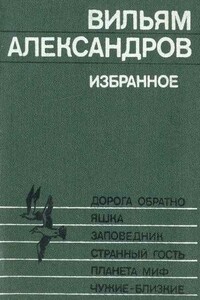Чужие и близкие | страница 64
— Подумать только, — говорила она, — совсем как настоящие! Впрочем, ведь в двадцатых годах во время разрухи тоже в таких ходили, правда?
— Не знаю, ба, меня тогда на свете не было.
— Да, да, я вспоминаю, у твоей мамы были такие же, она в них на фабрику бегала. Они стучали по мостовой, как колотушка сторожа.
— Они и сейчас стучат, ба.
— Ну, это ничего. Зато ведь ногам сухо. Ты посмотри только — у тебя ведь совсем сухие ноги, правда?
— Правда.
— А ну-ка пройдись, Славик, я хочу посмотреть, как ты ходишь в них.
Она заставила меня расхаживать в них по нашей карусели перед всеми ее обитателями, и ботинки получили всеобщее одобрение.
— Он даже взрослее как-то стал, выше, — сказала Анна Павловна, разглядывая меня грустными глазами, — верно, Соня?
Еще бы — не выше. Целых три сантиметра одна подошва!
Софья Сергеевна выглядывает из-за занавески, глядит на меня, на мои ботинки, и вдруг начинает плакать.
Она плачет беззвучно, во рту у нее кусок хлеба, она механически жует его, а из глаз ее катятся маленькие неподатливые слезы.
— Уж лучше б на комбинат я ее пустила, уж лучше б как все у станка бы работала. Ей бы, наверно, тоже дали такие… — горьким шепотом говорит она и сморкается в полу своего халата.
— Ну полно вам, Соня, — успокаивает ее Анна Павловна. — Вернется Женя, вот увидите, ведь не на край света уехала она.
— Не знаю… Ничего не знаю, — тоскливо качает она головой, и лицо ее сморщивается, делается совсем как печеное яблоко.
Мне ее жалко, и в то же время подкатывает злость — вот уже две недели прошло, как ушла Женя с тетей Полей, и ни слуху ни духу. Они должны были вернуться дня через два-три, ну от силы через пять. Наверно, что-то случилось. Софью Сергеевну все успокаивают, говорят, что ничего особенного, но каждому ясно — что-то там стряслось. А как Женька не хотела ехать, как она умоляла не посылать ее — видно, чуяло сердце.
Софья Сергеевна скрывается за занавеской и возится у своей чугунки. Она варит что-то вкусное — я слышу по запаху. По всей квартире разносится этот аппетитный запах — видимо, из тех продуктов, что принесла ей в прошлый раз тетя Поля. Она долго еще возится возле чугунки, потом снимает кастрюлю, ставит ее на пол — я слышу. Потом она идет к арыку, тщательно моет тарелку и ложку, возвращается и наливает себе суп или борщ — уж я не знаю, что она там сварила. И ест, смакуя каждый глоток. Она ест очень медленно, с расстановкой, время от времени накидывая в тарелку кусочки хлеба, чтобы они размокли, аккуратно пережевывая, утирая уголки рта косынкой. Я много раз видел, как она ест, и сейчас вижу сквозь просвет в занавеске. Она делает это так же — размеренно, с чувством. Она доедает все до конца, вымачивает хлебом остатки, кастрюлю выставляет на холод, чтоб не испортилось, нагружает крышку двумя кирпичами, а сама опять идет к арыку и снова тщательно моет свою тарелку и ложку. На лице ее сосредоточенное внимание. И, по-моему, удовлетворение. Теперь она будет рассуждать с Анной Павловной насчет того, как выгодней сварить борщ — на два дня или на три, потом на ночь она еще попьет кипятку с сухарями — она сушит их все время. А перед сном — немного еще повздыхает и поплачет. Вот и все.