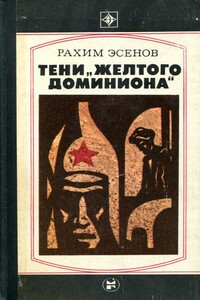Большевистское подполье Закаспия | страница 37
С. И. Сунгуров
Подпольная организация Ашхабада благодаря своей разветвленной сети легализованных и нелегальных работников, расставленных в ряде учреждений, в милиции, министерстве внутренних дел, на телеграфе, в типографии, профсоюзных комитетах и в других местах, была неплохо осведомлена о мероприятиях и замыслах контрреволюционного правительства. Да и сама жизнь, изобиловавшая множеством примеров антинародной политики властей (аресты и расстрелы безвинных людей, наглое хозяйничанье англичан, насильственный сбор налогов и т. д.), ежедневно давала материал для предметного, конкретного разговора с трудящимися и солдатами.
И. С. Копьев
Агитационная работа в основном велась среди железнодорожников, городских рабочих, ремесленников и служащих; в профессиональных союзах, «союзе фронтовиков», различных рабочих организациях; в ближних к Ашхабаду селах, среди некоторой части дайханства; в белогвардейских войсковых частях, особенно там, где служили мобилизованные рабочие, и в английских частях, среди солдат-сипаев.
Беседы агитаторов-подпольщиков с небольшой аудиторией, порою с двумя-тремя людьми, находили благодатную почву: многие рабочие убедились, что Временный исполнительный комитет — это марионетка в руках англичан, буржуазии и белого офицерства. Успеху политической работы способствовали не только настроение недовольных масс, но и актуальность большевистской агитации, ее злободневность, жизненность, умение подпольщиков найти доходчивые, убедительные формы воздействия на сознание трудящихся.
И. И. Тимофеев
Правда, многим агитаторам-подпольщикам не хватало теоретической подготовки, но их выручал жизненный опыт, умение вовремя рассказать о близких и понятных слушателям фактах, связать их с действительностью. Большевистские агитаторы умело использовали в пропагандистских целях, например, факты избиения солдат офицерами. Рукоприкладство процветало и в ашхабадском батальоне, где служил по мобилизации подпольщик И. И. Тимофеев, освобожденный из тюрьмы подпольной организацией. «Как. только уходит (офицер. — Р. 3.), подойдешь к пострадавшему, — вспоминал Тимофеев, — и начинаешь… мало били, надо бы больше. Зачем ты вообще-то здесь служишь? Где были у тебя руки, где твоя винтовка? Кто ж твой враг — большевики или этот, кто бьет тебе рожу?»>70
Такая беседа проходила обычно в многолюдье. Бывало, присутствовали здесь и бывшие красноармейцы, мобилизованные белыми из военнопленных, которые, сочувствуя избитому, замечали, что в Красной Армии подчиненных не бьют; агитатор же поддакивал, добавляя: перебежчиков большевики не расстреливают и в тюрьму не сажают, а отпускают по домам. Иногда такой разговор прерывался появлением офицеров или шпика. Но цель достигнута: люди расходились с определенным настроем — не воевать с большевиками и при удобном случае перебежать на сторону советских войск. В сознании почти каждого оставалась картина избитого солдата и убедительные доводы подпольщика, что большевики не «изверги», какими их обрисовывали офицеры.