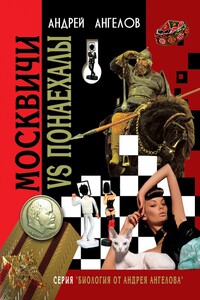Из книги «Документальные сказки» | страница 5
Я купила спальный мешок, напротив нашего общежития был зеленый участок, еще дикий. Там, под деревьями, я спала. Люди, приходившие туда отдохнуть, поиграть в карты, выпить, удивлялись, комментировали: «Как в походе».
Меня как бы невзначай толкнули в коридоре. На следующий день одна из женщин плеснула на меня горячим супом. Потом собралось несколько человек, и они двинулись цепью, оттесняя меня к стене.
Я спала днем, ночью бодрствовала. Обила стены звуконепроницаемыми плитками, окна изнутри закрыла ставнями из досок. Жила в темноте, не зная когда день, когда ночь. О времени суток догадывалась по звукам. Почти не выходила, запершись в своем бункере. Для естественных нужд завела ведро. Вылезала через окно. Продукты покупала на неделю. Отвращение к их чудовищной бесцеремонности и к себе самой — оттого что своим поведением провоцирую их на расправу, — вызывало рвоту. Я жила на воде с сахаром, запивая ею успокоительные таблетки и снотворное, но сон не приходил. Я перестала ходить на работу. Меня уволили.
Как-то, вернувшись, я застала свою комнату опечатанной. Начала барабанить в дверь. Колотила из чувства протеста, оповещая весь мир, что хочу войти к себе. Они злорадствовали, им казалось, что я считаю, будто одновременно нахожусь снаружи и внутри, думаю, будто я изнутри открою себе — той, которая стучит. Я сломала печать и вошла в комнату.
Мой жених начал меня избегать. Я узнала, что его останавливали, предостерегали относительно меня. Знакомые, родственники перестали мне писать. Спустя несколько месяцев во мне шевельнулось подозрение. Я сама написала себе письмо. Оно не дошло. Второе тоже. Официальные письма они отсылали назад с пометкой: «Адресат отказался принять». Личные письма вскрывали, прочитывали и уничтожали. В письмах, посылаемых себе, я, к счастью, не писала ничего о своей жизни, опасаясь, как бы они не догадались, что эти письма — проверка. Их сохраняли, как улику против меня. Выкрали письма, которые я хранила у себя. Их прочитала пани доктор «для моей же пользы, чтобы поставить диагноз».
Началась пытка тишиной. После всего, что было, я боялась, что же начнется теперь. Напряженно вслушивалась. Признаюсь вам в самом ужасном: в этой тишине через определенные промежутки времени мне слышались удары гонга, волчий вой, какие-то крики. Теперь я знаю, что это были звуковые галлюцинации, я предпочитала хоть что-нибудь слышать, чем ждать.
Потом я услышала за дверью подстроенный разговор. Все, что надо мной вытворяли, они приписывали мне; говорили, что я шумно себя веду, не даю им спать, нарушаю покой. Та женщина рассказала, как я облила ее супом. Я почувствовала себя свободной от всех моих принципов. Все равно обвинят меня. Сварила такой же суп, каким облили меня, притаилась в коридоре. Когда та женщина проходила мимо, я на нее плеснула. Она взвизгнула от боли, я увидела страх на ее лице. Я совершила поступок, который мне приписывали. «Она способна даже убить», — говорил кто-то. Я купила топорик, носила его на плече. Перестала запираться, прятаться. Отвоевала все их владения: туалеты, общую кухню. Сидя с топориком, никого туда не впускала. Они утверждали, что я испражняюсь в раковину, — я так и сделала. Плевала им в лицо. Они прятались в комнатах, крадучись пробегали по коридору. Теперь уже они вылезали наружу через окна, детей отправили к родственникам. По ночам я колотила обухом в стены. Тринадцать семей просыпались и прислушивались, не поджигаю ли я барак. Им хотелось спровоцировать меня на преступление, но страх был сильнее: они не знали, на кого падет мой выбор. Мной овладела ошеломляющая радость мщения, головокружительного риска, освобождения — от принципов, которые я внушала сама себе, и от страха, который внушали мне они. Это было всеохватывающее, но не свойственное моему характеру чувство, и оно лишало меня способности критически оценивать ситуацию.