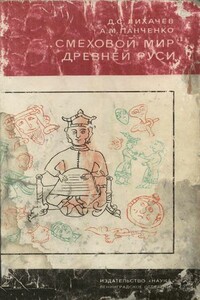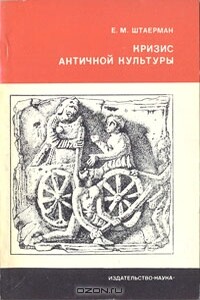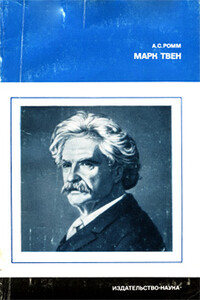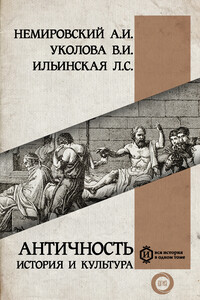Поздний Рим: пять портретов | страница 7
Христологические споры были по существу продолжением тринитарных, но в них на передний план выдвинулась проблема соотнесения в Христе двух природ — божественной и человеческой. Новый завет возвестил, что Логос как божественное творческое начало воплотился в конкретной исторической индивидуальности — Иисусе Христе, который был рожден девой Марией. Если в Христе первое, или производящее единство — это Логос, т. е. Бог как действующая сила, то второе его начало — человеческое, именно поэтому он, согласно Священному писанию, есть второй Адам. Обретя человеческую плоть, Христос осуществляет свое предназначение Спасителя.
Появились различные толкования того, как соединяются в Христе божественная и человеческая природы. Аполлинаристы, а затем монофизиты абсолютизировали божественную природу, усматривая в плоти Христа лишь некую «кажимость». Несториане же настаивали на преобладании в нем человеческой природы.
Римская кафедра, не очень вникая в теологические тонкости споров, попыталась взять на себя роль примирителя сторон, однако эта попытка практически не удалась. Собор в Халкедоне, в 451 г. утвердивший догмат боговоплощения, который гласил о совмещении в Христе во всей полноте божественной и человеческой природ «не через смешение сущностей, но через единство лица», углубил организационное расхождение церквей. Константинопольский патриарх был провозглашен равным римскому первосвященнику.
На Западе, однако, в конце IV в. больший общественный резонанс, чем споры о природах Христа, вызвало появление пелагианской ереси, решительную борьбу с которой повел один из «отцов» римско-католической церкви — Аврелий Августин. Центральным пунктом разногласий Августина и Пелагия было толкование свободы воли и божественной благодати. Пелагий полагал, что человек изначально свободен в своем выборе и не отягчен бременем первородного греха, а это ставит его в довольно независимое положение в отношении благодати божией. Августин же настаивал на абсолютности божественного предопределения и благодати и греховности человеческого рода, хотя и не отрицал наличия у человека свободы воли. Собор в Эфесе в 431 г. осудил инакомыслие Пелагия.
Несмотря на острейшую религиозную борьбу, в которой христианский бог побеждал богов-олимпийцев, римское общество, за исключением собственно духовенства, было гораздо более глухо к теологической полемике, чем население на Востоке, где тринитарные и христологические споры приобрели животрепещущий характер и волновали всех — от монархов до простолюдинов. Западная же аристократия замкнулась в своем кастовом высокомерии; плебс с еще большим неистовством требовал хлеба и зрелищ; императоров больше всего беспокоила борьба за власть и страх за собственную жизнь. Чиновники и официалы едва справлялись с нарастающими, словно снежный ком, экономическими, финансовыми и социальными проблемами, при случае с удовольствием уступая их решение епископам. Колоны и мелкие владельцы земли выбивались из последних сил, чтобы взрастить хоть скудный урожай на истощенной земле в условиях, когда разбойники и варвары постоянно угрожали самому их существованию, а крупные землевладельцы, окруженные вооруженными отрядами (как в будущем феодалы), отбирали у них не только излишки, но и необходимое, — голод и эпидемии стали рядовыми явлениями в еще недавно обильной Италии.