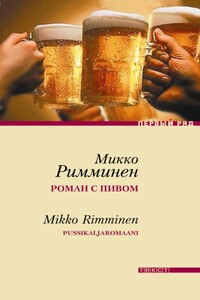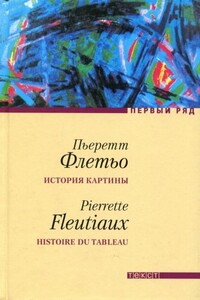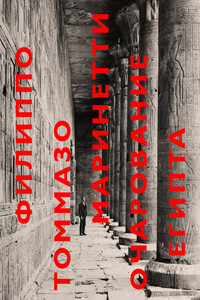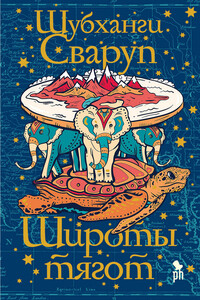Счастливые несчастливые годы | страница 45
В воздухе ощущалась тяжесть, это была атмосфера медленного выздоровления. При взгляде на замерший в неподвижности письменный стол в углу, на его массивные ящики с круглыми ручками из слоновой кости казалось, будто за этим столом сидит невидимый конторщик, без пера и бумаги, и диктует письма в никуда. Руки мадам создали композицию из разнородных предметов, одушевленных и неодушевленных. К одушевленным принадлежала она сама, с двумя обручальными кольцами на пальце: золотое надгробие на двоих, символ честного вдовства и верности обетам.
Мадам налила себе и мне чаю, медленно наполнив чашку до половины, предложила петифуры. «Je vous en prie[36], дорогая». Губы ее потянулись к чашке, приоткрылись и замерли, словно пожелав высказать какую-то мысль, но так и оставив ее невысказанной. Физиономии на стенах как будто ожили, мелкие трещины на живописи нервно подергивались. Мадам улыбнулась мне, а я — ей. Так, значит, я подруга ее дочери, у которой нет подруг. Она счастлива со мной познакомиться. Похоже, она говорила почти правду, и я была благодарна ей за это «почти», тончайшее масло, смягчающее грубое столкновение между правдой и ложью. Ее глаза обволакивали меня детски невинным взглядом. Это были глаза девочки, которые отталкивали от себя все неприятное, или глаза куклы, в них не было ни тупости, ни удивления. В них уместился рай, играли радужные отблески Женевского озера. Мадам казалась счастливой. Непередаваемо мягким голосом она спросила, в какой гостинице я остановилась.
— В «Отель де Рюсси».
— Они обанкротились, — сказала она и добавила уверенным тоном: — Гостиницу скоро снесут.
Комнаты там большие и просторные, продолжала я, прямо-таки залы (я говорила с таким воодушевлением, словно хотела спасти гостиницу от разрушения). Да, она это знала, но заведение пришло в полный упадок. Она терпеливо расспрашивала меня, очень осторожно спросила, живы ли мои родители. И протестанты ли они. Я намекнула мадам, что мы с ней однажды уже встречались. Она мягко заметила, что не помнит этого. Но я не сдавалась: это было в тот день, когда она приехала в пансион за Фредерикой. И я провожала их на станцию. Вот теперь мадам вспомнила «une jeune fille triste»[37], и подбородок у нее сочувственно вздрогнул. Она заговорила о капризах, но не судьбы, а погоды, о духоте и влажности. У нее были завидные познания в метеорологии. Ее спокойствие и мягкость были великолепны, точно плотный бархат. Превосходная, прочная материя, которой можно было бы украсить двери и окна. Я взяла несколько петифуров, она извинилась, что не предложила их мне во второй раз. Я пересчитала их: на блюде оставалось пять или шесть штук, и я решила их доесть. Я вызвала в памяти одну за другой всех мамаш, каких видела в пансионах. И почувствовала легкое отвращение. Без всяких к тому оснований. Я видела их в приемных, они сидели в своих английских костюмах и шевелили губами.