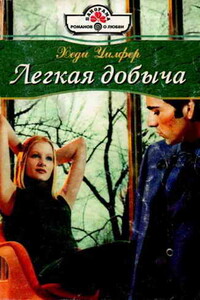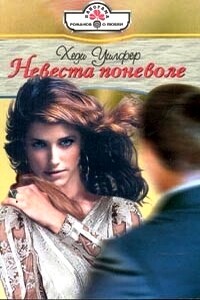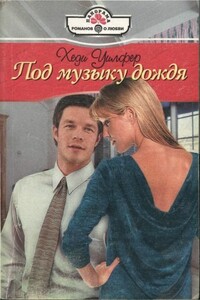Любовь на десерт | страница 42
Однажды Джон с нехарактерной для него откровенностью сказал Одри:
— Знаешь, моя дочка в восторге оттого, что ты приезжаешь к нам, делишься с ней своими мыслями, впечатлениями, сомнениями и даже порой советуешься с ней о чем-то. Эллис относится к тебе как к старшей сестре или… Словом, я хочу сказать, что ты все больше и больше становишься для нее кумиром, образцом для подражания, неким побудительным стимулом. Своими беседами, поступками, всем поведением и, может быть, даже внешним видом ты создаешь вокруг нее естественную, жизнерадостную атмосферу, а это для Эллис очень важно. А что важно для моей дочери, важно и для меня.
Эти слова показались Одри очень искренними и в какой-то степени даже взволновали ее. Но потом, проанализировав их на досуге, она поняла, что за проникновенным монологом босса скрывается определенная цель: он хочет окончательно опутать ее льстивыми речами и покрепче привязать к дому, чтобы тем самым облегчить жизнь себе и своей маленькой дочери. Когда его исполнительная, трудолюбивая секретарша после работы являлась к нему домой, чтобы присмотреть за Эллис, он мог по-настоящему расслабиться — выпить бокал вина или рюмку-другую виски, почитать газеты, обменяться несколькими фразами с дочерью и ее наставницей и понаблюдать, как они играют в гостиной или готовят ужин на кухне.
Такая уютная домашняя обстановка все глубже затягивала, увлекала, влекла Одри. В доме Джона Моррисона она никогда не уставала, не раздражалась и чувствовала себя необыкновенно спокойной, почти умиротворенной. С другой стороны, эта расслабляющая атмосфера несколько настораживала и порой даже пугала ее. Но когда она обращалась к своей душе и пыталась докопаться в ее глубинах до истоков этой настороженности и страха, перед ней всегда вставала, как заградительный барьер, лишь глухая стена непонимания…
Мысли о Джоне, его дочери и о собственной судьбе посещали Одри почти каждый день. Не давали они ей покоя и в этот вечер, пока она занималась разными разностями с Эллис, а потом добиралась в одиночестве до своей безлюдной окраины.
Когда она вышла из дома Моррисонов на улицу, часы показывали половину девятого. Было уже совсем темно. В лицо плеснул пронизывающий, обжигающий ветер, и через минуту ее нос, уши, пальцы стали деревенеть от холода. На мгновенье ей почудилось, будто она шагает не по нью-йоркской улице, а по какой-то промерзшей, дикой дороге в Сибири.
От станции метро до ее дома идти пешком было не больше пятнадцати минут. Но это если идти нормальным шагом. А поскольку сегодня ее гнал не только обычный страх перед темнотой и безлюдьем улиц, но еще и холод, она не шла, а бежала вприпрыжку и уже через семь минут увидела впереди смутные очертания знакомого подъезда.