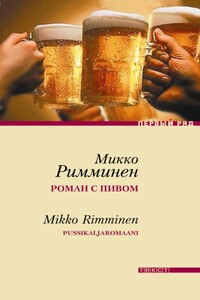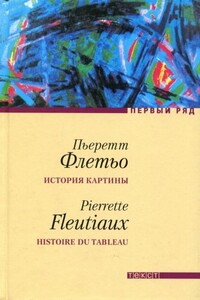А облака плывут, плывут... Сухопутные маяки | страница 27
В «Бецалеле» Наоми не прижилась. Ее не любили ни преподаватели, ни студенты. Слишком уж она была колючая. А когда ее отец умер, ей и вовсе пришлось бросить учебу и вернуться в Хайфу, чтобы ухаживать за матерью. Она начала пить.
— Она просто сводит меня с ума, — плакала Наоми в трубку. — Без алкоголя я не выживу.
— Так положи ее в психушку.
— Она не хочет.
— Тебе надо думать о самой себе.
— Почему именно о самой себе? Что плохого в том, чтобы думать о других?
— Ты хоть писать-то продолжаешь?
— Иногда, по ночам, когда она не видит. Она говорит, что мои картины — исчадье ада и что они ее убьют.
Однажды я приехала в Хайфу навестить маму. Она проходила тогда очередной сеанс химиотерапии, и все ее прекрасные волосы выпали.
— Тебе, по крайней мере, хотя бы есть на что надеяться, — сказала Наоми. — Твоя мать еще может выздороветь. А вот моя…
Постоянного партнера у нее в то время не было, только случайные мужики на одну ночь, с которыми она знакомилась в барах, а у меня тогда как раз начался роман с Шимшоном. Мы познакомились, когда он начал читать лекции у нас в колледже. Он был намного старше меня и своей стеснительностью, неуверенностью и очаровательной рассеянностью напоминал Вуди Аллена, так что мне все время хотелось обнять его и пожалеть.
Шимшон великолепно знал историю живописи, имел тонкий вкус и прекрасно разбирался в одежде, музыке, макияже, духах, еде и винах. Когда он читал лекции, его тоненькие ручки и ножки дергались, как у марионетки, очки сползали на кончик носа, а на лоб элегантно спадала седая прядь ухоженных волос. Имена и даты сыпались из него, как из рога изобилия, а его голос, как у оперного певца, то взлетал ввысь, то опускался до самых низов.
Он ухаживал за мной долго, как влюбленный подросток. Когда мы сидели в каком-нибудь дорогом ресторане, он робко брал меня за руку своей бледной, веснушчатой лапкой и молча смотрел мне в глаза. Так продолжалось несколько месяцев, пока наконец летом, перед началом последнего учебного года, он не набрался смелости и не пригласил меня поехать с ним в Лондон. По вечерам мы ходили на концерты в «Ройял-фестивал-холл», на оперы в Ковент-Гарден или в театр, а днем мне приходилось проводить с Шимшоном время в мужском отделе универмага «Харродз». Он покупал носки и трусы только там. Закупал их целыми партиями на год вперед и подбирал по цвету к одежде, обуви и галстукам. Ноги у него были безволосые, как у новорожденного. Когда мы лежали в постели, он жадно, как голодный младенец, прижимался к моей груди, а я зарывалась носом в его седую прядь и вдыхала запах дорогого лосьона, тоже, разумеется, купленного в «Харродзе». Когда мы вернулись из Лондона, наши отношения вступили в новую фазу. Каждый уик-энд я теперь проводила у него. По пятницам он закупал все газеты, какие только можно, и жадно прочитывал в них отделы искусства, чтобы узнать, кто обругал его на этот раз, а по субботам надевал махровый купальный халат и домашние туфли, уходил в свой кабинет и сочинял язвительные ответы. Его бледные ноги под столом время от времени поглаживали одна другую, а седая прядь на лбу воинственно раздваивалась, как бычьи рога.