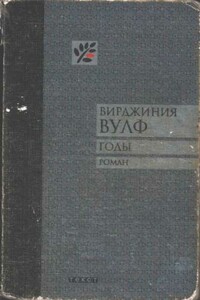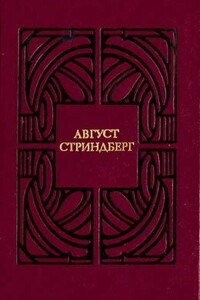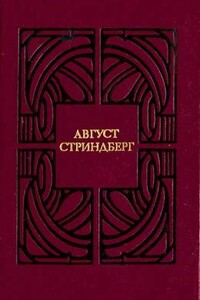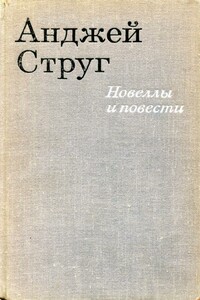На круги своя | страница 51
Теперь он снизу смотрел на это великое музыкальное творение, равных которому не было ни в природе, ни в искусстве. Оно вселяло тревогу, подавляло и подчиняло себе, хотя было создано рукой человека и могло ожить, только руке человека подчинившись. Альрику хотелось понять, что же это такое, отыскать в незнакомых формах знакомые, приблизить к себе это творение, опустить его до себя и успокоиться. Он уже решил, что церковь — это первобытный лес, где язычники приносили людей в жертву, колонны — деревья, а своды — ветви, но орган оставался органом. Это не растение и не животное, но, возможно, коралл; это не здание, но, возможно, подвесные башенки на рыцарских замках, турели фасадных труб, многие из которых потеряли голос, но сохранились, как ненужный атавизм. Каждый ряд маленьких труб был похож на флейту Пана, которая наверняка и была их прообразом, но большие трубы на выступающих боковых башнях выглядели иначе и напоминали скорее коллекцию оружия. Орнамент прошлого столетия из позолоченного дерева с завитками и закрученными на китайский манер цветами мешал связать воедино эту сумятицу форм, хотя ум более просвещенный, чем ум молодого приказчика, прочел бы здесь всю историю инструмента: от тростниковой флейты язычника-римлянина, волынки варвара-кельта и водяного органа византийского императора до саксонского фарфора и Первой империи с ее увлечением римским оружием, припоминая эмпоры, трифории, колокольни, алтари и табернакли средневековых соборов.
Профессор сел перед мануалами, расположенными в три уровня, выдвинул принципал и указал ученику место рядом. Мехи выдохнули, заскрипели, фасадные трубы начали в унисон выпевать прелюдию, вскоре присоединилась флейта, и гармонии расцветились, гнусавая гамба подхватила соло баритона, затрещал тромпет, зарычал бурдон, потом один за другим они умолкли, и в тишине голос кантора запел первую строфу «Играй, псалтирь и арфа». Когда он, вибрируя, протянул последнюю ноту, орган зазвучал в полную мощь и прихожане запели. Со всеми коппулами в педали и всеми звучащими регистрами орган исполнял свою симфонию, и все инструменты оркестра подчинялись рукам и ногам одного человека. Когда чуть позже священник у алтаря начал читать «Свят, свят», его голос звучал так, будто какой-то посторонний человек заговорил вдруг во время концерта, а когда наконец добрались до проповеди, профессор сел спиной к органу и закрыл глаза, давая понять, что ему помешали. Но богослужение подошло к концу, все псалмы были спеты, и теперь, по собственному выражению профессора, он мог говорить свободно: он заиграл заключительную фугу, велев господину Лундстедту сесть рядом и помогать с регистровкой. Играл он для единственного слушателя, кроме кальканта, потому что, когда церемония наконец кончилась, в церкви не осталось ни души. Профессор все видел в свое зеркало, но он привык, он наслаждался одиночеством и непременно рассердился бы, если б публика осталась и посмела делать вид, что понимает в вещах, оценить которые мог лишь он один.