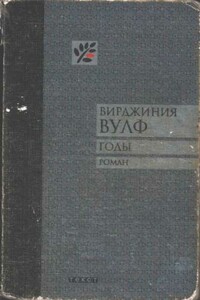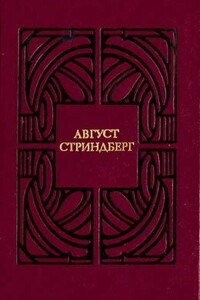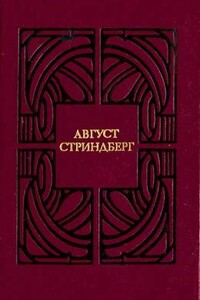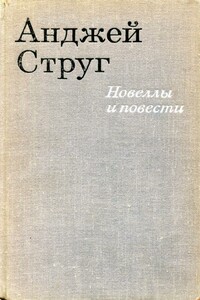На круги своя | страница 49
Он никак не мог решить, с чего начать: с разговора о погоде, спросить, ходила ли барышня на похороны короля, выяснить, любит ли она музыку, дорога ли жизнь в Стокгольме, или сказать что-нибудь столь же невинное. В конце концов, почти уже решившись на разговор о похоронах, он вздрогнул и, к своему немалому удивлению, голосом таким, словно просил денег, поинтересовался, который час.
Барышня, а она оказалась из тех, кому, как говорится, пальца в рот не клади, ответила, взглянув на какого-то внимательного слушателя у окна, что ее часы в ломбарде. Слово это было господину Лундстедту незнакомо, но, считая, что получил подобающий ответ на свой вопрос, и не желая показать своего невежества, он поблагодарил девушку и слегка поклонился, как было принято в его городке. Посетитель у окна, который ел холодные бараньи ребра с брусникой, поперхнулся, а девушка спросила, почем нынче картошка.
— Когда я уезжал из Трусы, давали восемь скиллингов за каппу[25], — ответил господин Лундстедт, благодарный, что разговор таки завязался, хотя ему пришлось напрячь все свои знания о гармонии, чтобы постараться перевести его с картошки на Музыкальную академию и «гения».
Бесстыдница, видно, любила повеселиться и потому упрямо настаивала на теме, которая в действительности интересовала ее не больше, чем посетителя с бараньими ребрами.
— Надо думать, это изюм, коли стоит восемь скиллингов? — спросила она.
Господин Лундстедт стал искать в своей памяти, опьяненной утренней славой, возможного разъяснения, чт́о это за неведомый сорт картофеля, и, не найдя подходящего ответа, забеспокоился. К счастью, человек у окна встал и, пожелав расплатиться за бараньи ребра, перегнулся через стойку и расставленные на ней блюда с всевозможными угощениями — от яиц всмятку до тефтелей и раков.
Предоставленный самому себе и слыша шепот, смысла которого разобрать не мог, господин Лундстедт почувствовал досаду и, выпив пива за свой успех, тоже собрался уходить. Чтобы не показаться невоспитанным, он хотел подыскать на прощание какие-то любезные слова, но, не найдя их, только погладил крысоловку, принадлежавшую посетителю, и так, будто своим любопытством делал ее хозяину одолжение, спросил:
— Что это за порода?
— Это? — откликнулся посетитель. — Это горчичный шнауцер.
— Ах вот как! Надо же! Сколько на свете неизвестных мне пород! До свидания, сударыня! До свидания, сударь! — сказал Лундстедт и отправился домой.
Но чувства его рвались наружу, и дома он сел у окна писать письмо старику отцу, желая поведать о своем счастье. Крепкое пиво, а также некоторая порывистость нрава сделали свое дело, и склонная к фантазиям натура увлеклась игрой. Он воображал себя человеком могущественным и богатым, который в лучах своей славы не забыл о старом бедном отце, даровавшем ему жизнь, а сейчас терпящем нужду; помня о долге сына перед родителем, он умолял старика немедленно продать дом, корову, сети, лодки и приехать к нему в Стокгольм. Опасаясь, что его трепетное желание не исполнится, он в ярких красках описал столицу, причудливость ее улиц, площадей, домов, лавок и ресторанов, рассказал о своем жилье, о венецианском ковре, о саде с беседкой и коричными грушами. В конце письма Лундстедт заклинал отца немедленно бросать все, садиться на пароход и, не скупясь на билет в салон, заказать на ужин портер и жаркое, чтобы добраться до Стокгольма в полном здравии.