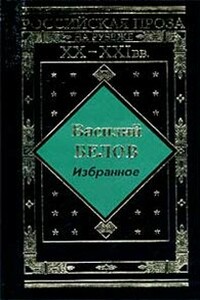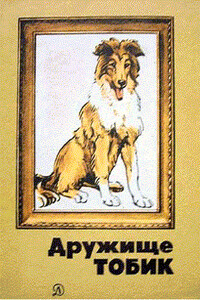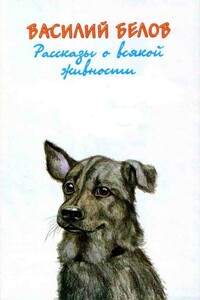Невозвратные годы | страница 15
Всё это отнюдь не противоречило прежним моим представлениям об отцовской фамилии…
Тем же причтом в 1906 году была крещена и Анфиса, дочь девицы Анны Михайловны Коклюшкиной. Восприемниками у моей будущей матери случайно оказался д. Тимонихи Лаврентий Петров Колыгин (иначе, мой прадед по отцу). Восприемницей была крестьянской вдовы Марии Ефимовой дочь — девица Ирина Евгеньевна (какой деревни и какая была фамилия у Ириши, записано неразборчиво.)
Да, это была та самая горбатенькая Ириша! Она крестная мать моей родительницы Анфисы. Я так хорошо её помню… Она собирала милостыню и всегда заходила к нам в пору нашего детства. Ири ша была типичной представительницей Святой Руси, её доброта оказалась поистине неизбывной! Это от Ириши через маму дошла до меня медная иконка-складень. Во время своей бесшабашной атеистической юности я утерял этот складень с изображением Николая Угодника Божия и Чудотворца. Позднее Никола снова явился ко мне, в то время я начал уже задумываться о Боге и обнаружил складень Ириши, её благословение круглой сироте Анфисе…
Ещё более удивительным было то, что на 119 странице приходской книги крещений, смертей и венчаний есть запись о Вере — моей тёте. Отец Веры Фёдор Лаврентьевич Колыгин, мать Александра Фоминишна…
Так медленно, постепенно открывались тайны моей родословной, и я попутно наконец выяснил подлинную историю с нашей фамилией.
Почему я так усиленно вспоминаю тётку отца Наташу, кривую (с бельмом) бабушку Таню, горбатенькую Иришу? Объясню в обратном порядке.
Ириша запомнилась как бесконечно добрая, смиренная мамина крестная. Таня Колыгина тоже была добрая и собирала кусочки (я уже поминал её в каком-то своём опусе). Таня умерла во время Великой Отечественной морозной зимою в своей одинокой избушке. Таню долго не могли похоронить как раз по причине морозов. Могила её затеряна… Наташу я запомнил потому, что она в своё время, когда никого из Беловых ещё духу не было, выхаживала замуж за некоего Перьёнка в деревню Алфёровскую и там родила дочку Евдокию. От Евдоши, давшей всем Беловым первые уроки альтруистической доброты, а также от бабки Фомишны я и слыхал подробные рассказы о Перьятах, то есть о родственниках Перьёнка.
Ничего особого в них не было. Семья как семья. Только говорилось, что были Перьята слишком «простые», совсем бесхитростные. Тем они и запомнились жителям Алфёровской.
Эта деревня, подобно тысячам других таких же, упоминается в писцовых книгах царя Михаила, из бранного на царство Собором после Смутного времени. Значит, деревенька, да и вся наша волость существовали задолго до 1630 года… Несмотря на нынешнюю смуту, деревня устояла, хотя и оста лось в ней всего четыре жилых подворья. Приезжайте, господа, можно проверить. До революции тут было более двух десятков домов. В этой-то Алфёровской и была когда-то моя родня. Наташа, как по-девичьи до старости и до кончины звали тётку отца, дожила до середины тридцатых годов, потому я её и помню только слегка. Итак, Наташа выхаживала за Перьёнка, о котором мне достоверно известны всего лишь два обстоятельства. Во-первых, что у него имелся дегтярный завод, а во-вторых, удивительный нрав. Перьёнок был до того простодушный, что не замечал даже воровства дёгтя и хищения берёзовой коры со своего предприятия. Такие бескорыстные были, видимо, все Перья-та. Дегтярный завод, который они содержали, не давал им никакого дохода. Привезёт мужик воз бересты (скалья) в обмен на дёготь, получит полбочки дёгтю, а свою бересту с телеги не выгрузит. Дегтяри ничего не заметят. А если и заметят, то лишь рукой махнут. Рассказывали, что даже хлебный амбар у них не запирался: Перьята надеялись то на Бога, то на чистую совесть земляков. А чистая совесть была, увы, не у всех… Впрочем, почти что у всех… Но попадались и такие мужики, как нынешние приватизаторы.