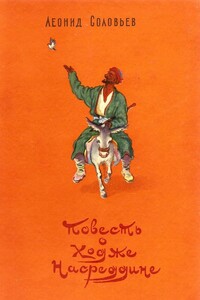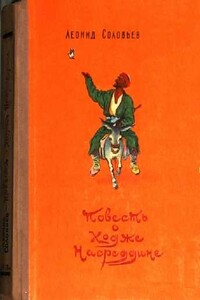Книга юности | страница 39
Он молча обошел клуб — мой клуб, с промытыми светлыми окнами, с починенными скамейками, с чистыми стенами, еще пахнущими свежей побелкой, и так же молча удалился обратно в райисполком. Ни слова, ни знака, ни малейшего движения на лице! Я, проводив его, стоял у дверей клуба в растерянности. Что это значит, понравилось ему или, наоборот, не понравилось, и чего я должен теперь ожидать?
Потом-то я сообразил, что его молчание ровно ничего не значило. Он просто усмотрел в этом клубе излишнюю заботу для себя и заранее отвел ее — типичный прием бюрократа.
Но ключ от клуба оставался у меня, следовательно — оставалась и должность заведующего.
И я решил начинать.
Первое представление состоялось через пять дней. Выступал атлет Иван Павлинов. Это был действительно человек необычайной силы. Он пришел со станции в Канибадам — за десять километров! — пешком, с грузом, состоящим из двух гирь, по два пуда каждая, из куска полосового железа, свернутого втрое, полупудовой кувалды на длинной рукояти и большого ведра с водой и живыми лягушками. Гири, полосовое железо и кувалду он принес в брезентовом мешке за спиною, а ведро — в руках.
Атлет переночевал у меня. Он был очень внимателен к своим лягушкам и каждые два часа менял воду в ведре.
— А для чего лягушки? — спросил я.
— Для второго отделения, — кратко ответил он, продолжая выпрямлять с помощью ног полосовое железо. Атлет был до крайности молчалив.
На следующий день к вечеру перед клубом заревел прерывистым басом «карнай»— длинная боевая труба, завизжала сопелка и загрохотал барабан. Оркестр, нанятый мною за три рубля, оповещал канибадамцев о представлении.
К своему инвентарю атлет Иван Павлинов потребовал небольших добавлений — полтора десятка жженых кирпичей, второе ведро с водой и большой таз. Я доставил ему все это и стал в дверях, пропуская зрителей, взимая с каждого по двугривенному.
Очень скоро зал наполнился до отказа, и началось представление. Первая половина состояла из упражнений с гирями. Могу свидетельствовать, что это были настоящие двухпудовые гири, без всякой липы. Артист работал на совесть, мускулы, бугристо вздувавшиеся на его руках и ногах под темной кожей, были настоящие мускулы, и кровь, приливавшая к лицу от напряжения, была настоящая кровь. Он высоко подбрасывал гирю и ловил на грудь или на спину. Я заметил, как он ловко приседал, чтобы смягчить удар. Приседал, а все-таки покряхтывал. Потом четверо дюжих зрителей, по два с каждой стороны, изгибали полосовое железо на его шее. Заканчивалась первая половина представления разбитием кирпичей на голове атлета — вот для чего нужна была ему кувалда. Когда все полтора десятка кирпичей были разбиты, я объявил антракт.