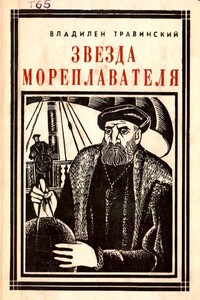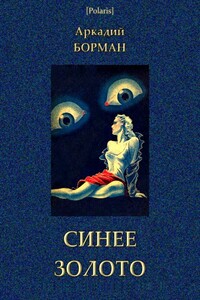Рэймидж и барабанный бой | страница 115
— Как вы могли убедить испанцев, что вы американец, если носили этот мундир?
Она протянула ему очень маленькую и сохнущую на глазах оливковую ветвь, но он ухватился за нее нетерпеливо.
— Я носил матросский костюм. Я только что купил этот. Лейтенант моего размера — немного более узкий в плечах, пожалуй, — только что выкупил его у портного.
— Он был добр, что согласился вам его продать.
— На самом деле не был: фактически он отказался, но Специальный уполномоченный приказал, чтобы он продал его мне.
— Ваш специальный уполномоченный любит давать неприятные приказы…
— Боюсь, что так, — сказал Рэймидж лицемерно. — Но — ладно, когда вам приходилось отдавать неприятные приказы кому-то в Вольтерре, вам и в голову не приходило, что вам не повинуются, хотя, вероятно, вы не любили отдавать их…
— Это правда. Я предполагаю, что тут — то же самое, — признала она.
— Абсолютно то же самое. Основа флота или государства — и даже семья — опираются на дисциплину, — сказал он напыщенно.
— За исключением того, что я люблю тебя.
В ее голосе звучал вызов, и он знал, что это означает, что она не признает ни правил, ни препятствий. Боясь, что она заставит губернатора использовать свое влияние, чтобы другого лейтенанта послали к сэру Джону, Рэймидж целовал ее до синяков на губах, и только бой часов заставил их подскочить.
Почти час прошел: Специальный уполномоченный уже наблюдает за якорной стоянкой. Он встал, помог ей подняться и, прежде, чем она могла сказать что-либо, поцеловал ее крепко снова, затем обнял ее так, чтобы она не могла видеть его глаз, и начал говорить быстро, низким, срывающимся голосом, как если бы должен был сжать целую жизнь в оставшиеся минуты.
Когда он спустился по стертым и скользким ступенями причала Рваных Парусов, Рэймидж чувствовал внутри ту самую пустоту, которую почти каждый испытывает, возвращаясь в море в военное время: он оставлял кого-то, кого любил, ведомый неким внутренним побуждением… ну ладно, долг — слишком напыщенное выражение и охватывает лишь одну десятую из того, что движет им. То, что впереди недели, возможно, месяцы неудобств и однообразия, было настолько бесспорным, что краткие моменты опасности станут облегчением — как острый вкус во рту после бесконечно долгого питания солониной, что заставляло моряков жевать табак. Но ни один человек еще не нашел, что можно пожевать, выпить, сделать или сказать, чтобы ослабить боль сознания, что прощание может оказаться последним. Это, вероятно, еще хуже для женщин, которые остаются на берегу, сидя наедине со своими воспоминаниями и никогда не зная, пощадили ли их мужчин сражения, болезни и несчастные случаи.