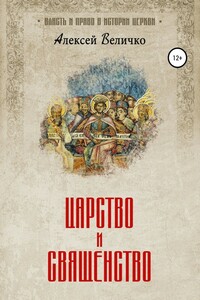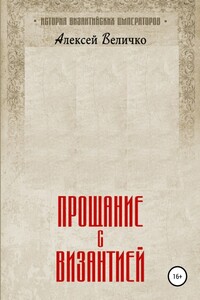История византийских императоров. От Юстина до Феодосия III | страница 100
Но на Западе ситуация развивалась иначе. Следует иметь в виду, что в своё время именно по инициативе Рима три богослова, на которых обратился взор царя, были прощены Вселенским Собором, и в покушении на их имена Запад увидел косвенное, как минимум, опровержение Халкидона. Помимо этого на Западе господствовало ошибочное убеждение, будто послание Ивы Эдесского персу Мару, ставшее предметом критики св. Юстиниана, было одобрено Халкидонским Собором. Естественно, Рим в категоричной форме не принял богословия императора. Римский диакон Стефан Факунд Гермианский из Африки написал трактат «В защиту «Трёх глав»», отрицательные ответы на сочинение императора были получены из Рима от папы Вигилия и от Карфагенской церкви. А архидиакон Карфагенской церкви Ферранда в письме к диаконам Римской церкви Пелагию и Анатолию отверг императорский эдикт на том основании, что провозглашение истинных богословских утверждений находится всецело в компетенции епископов, но не царя. «Никто не может, — писал он, — заручившись множеством подписей, придать собственной книге авторитет, признаваемый Кафолической Церковью только за каноническими книгами. Для спокойствия церквей было бы полезно, чтобы никто не предписывал Церкви, что она должна делать, но всякий придерживался бы того, чему учит Церковь»[236]. Конечно, такой подход принципиально был неприемлем для св. Юстиниана Великого.
Впрочем, нельзя сказать, что протесты всегда носили содержательный характер. Например, епископ Понтиан отписал св. Юстиниану, что сочинение Феодорита Кирского не известно в его епархии, поэтому он рекомендует уклониться от осуждения этого епископа, тем более, что автор уже давно мёртв, а мёртвых осуждать не следует[237].
Для умиротворения ситуации осенью 544 г. св. Юстиниан решил вызвать папу Вигилия в Константинополь — действительно, должен же был он хоть когда-то начать оправдывать то доверие, которое оказал ему царь? Формально вызов был обусловлен опасностью, которой папа подвергался в осаждённом Остготским королём Тотилой Риме. Очень неохотно папа принял этот вызов (приказ?) — на Западе это нежелание даже позднее переродилось в легенду, будто императорский чиновник, доставивший понтифику повеление св. Юстиниана, имел поручение задержать папу и силой доставить его в восточную столицу. В любом случае Вигилий тянул время, надеясь, что всё уляжется само собой без его деятельного участия. Папу посадили на барку и отправили в Сицилию, где на него со всех сторон накинулись противники императора. Сюда же прибыл Зоил Александрийский, позднее отозвавший свою подпись под осуждением Феодора Мопсуэтийского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского. Осенью 546 г. папа Вигилий, наконец, тронулся в дальнейший путь, по дороге рассылая письма остальным патриархам с предложением отказаться от осуждения трёх богословов. Нарекания в свой адрес вызвал и Константинопольский патриарх Мина, которому папа пенял на неразумие и скоропоспешность в выводах. В конце концов, в сопровождении пышной свиты 25 (или 27) января 547 г. Вигилий торжественно въехал в Константинополь. Его встреча была беспрецедентно пышна и торжественна. Константинопольцы хором скандировали при проезде апостолика: