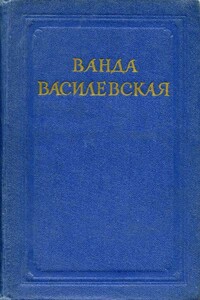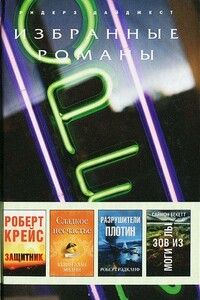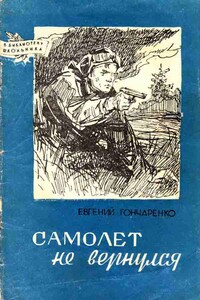Горелый порох | страница 87
Минуты разговора, а Лютов знал уже все, что можно знать о людях открытых, доверчивых, с той работной закваской, на которой обычно складываются и держатся людские отношения. Убедившись, что подошедший к ним военный, хоть и с командирскими петличками, но по разговору свойский мужик и не из тех, кому надо минировать и взрывать их электростанцию, старики выворачивали свои души, жаловались, ругались, сочувствовали кому-то и хотели такого же сочувствия себе:
— Я под флагом адмирала Рождественского ходил, мать нашу бог любил, — все еще ворчал Митрий на минеров. — Я сам взорву, когда приспичит…
Младший брат судил иначе: как только немец подойдет к Плавску и будет угрожать захватом, братья поснимают с дизелей важные узлы и детали и зароют их в пожарном сарайчике, а машины песком начинят — сам черт не заведет…
— Черт не заведет, а немец заведет, — не соглашался старший. — На то он и немец! Полез козел на рожон — посватался с ежом.
— Неправда! — перечил младший старшему. — Возвернется назад и наш час. Не век у нас царить немцу!.. Да, Сталин сплошал, так народ сам за свое возьмется — спасется Россия… Станцию, конешно, жалко…
Старики с неподдельной любезностью показали машины. Оба дизеля стояли в добром хозяйском опряте, будто их только вчера пустили на ход. Мальчонка лет двенадцати с паклей в руках отирался возле, оглаживая машины, будто любимых коней.
— Да, такое взрывать не резон, — пожалел дизеля комбат Лютов. — Может, их эвакуировать еще не поздно? Увезти в тыл…
— Всю Россию не увезешь, — со вздохом проворчал бородач. — Сибири не хватит, мать нашу бог любил.
Выйдя из здания, сели на лавку покурить. Митрий не унимался, не знал, каким разговором унять разболевшуюся душу.
— Третьеводни еще, прознали мужики, спецы из НКВД вздумали с колокольни «божьи» часы снимать — куранты по-научному. Их еще в том веке, когда церковь ставили, плавские купцы из Европы выписали. Кажись, у самого ерманца и купили-то — за золотце, ясно дело. Как эти часы водружали на колокольню, никто, конешно, и не помнит — давнишняя канитель. А вот как их спускать с божьей высоты будут — интерес великий. Весь, почитай, город сбегся, как в тридцатом годе, когда антихристы колокола сбрасывали. Но в колокола наша власть не трезвонила — телефоном, да радио обходилась, поразбивала их и никакой жали. А тут часы-куранты — цивильная машина-механизм. По ним народ за временем следил, по ним человек жил: просыпался, работал, спать ложился, рос и в свой час помирал. Как ни толкуй, а часы любой власти служат. Так и наши, курантские. За ними приглядывал умелец с завода Тимоха Пукальцев, знаменитый здешний бас. Он что тебе колокол — когда-то на клиросе певал. Так вот он-то и заводил часы каждую неделю, держал их в нужной работе. Да недолго после снятых колоколов куранты своими звонами честной народ тешили. Запретили ходить им! Через Тимоху, конешно. Вызывали его, куда надо, стращали, просвещали, уму-разуму наставляли, даже в кутузке по неделе держали, чтоб религию, опиум, значит, не разводил в здешней округе. Ну, без него часы с недельку помолчат-попечалуются, а выйдет Тимоха — опять время на ход пущается… Ведь наши куранты, ежели по чести ценить, под стать главным, тем, что в Белокаменной — даже четверти отбивали!.. Но, видно, не судьба им вечно звонить. В тридцать седьмом окончательно «стоп-ход» часам дали. На этом «румбе» и изошла силушка пружинная… А Тимоху, словно на войну увезли, — с концами… Царство ему небесное! — старик под бородой поскребся щепотью — перекрестился. — Мозговитая башка был. Чудо-бас-голос! И времени верный ход давал, и светлу песню спел — себе и людям…