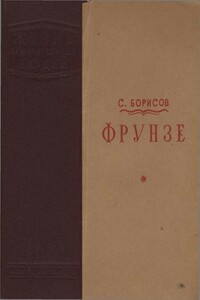Баженов | страница 35
Общая композиция Большого Кремлевского дворца рисовалась автору как огромный комплекс, по форме близкий к треугольнику. Комплекс должен был включить все старые кремлевские архитектурные памятники — Арсенал, соборы, колокольню Ивана Великого. Не крылось ли тут опасности создать архитектурный конгломерат? Эту небывалую в истории архитектуры задачу Баженов разрешил с честью. «Проблему введения в новый комплекс разных по времени и стилю, не созвучных новому дворцу старых зданий, Баженов разрешил тем, что он дал, так сказать, инородные по отношению друг к другу здания в своем новом комплексе, что привело частично к художественной обособленности частей комплекса…. Освоение кремлевского архитектурного наследия шло здесь по линии создания нового живописного комплекса»… (Н. Кожин.)
Старая французская Академия, еще за столетие до пребывания Баженова в Париже, установила каноны архитектурных пропорций; они стали обязательными для зодчих классицизма: «При возведении здания необходимо, соблюдать три условия: прочность, удобство, красоту; их совершенство всецело зависит от степени таланта архитектора». Эти каноны, ясные, как закон золотого сечения, разве не получили своего применения в Версале и Лувре?
Вынашивая архитектурный образ Большого Кремлевского дворца, Баженов мысленно не раз возвращался к современным созданиям передовой французской архитектуры, казавшимся ему идеально решенными в духе античности. Обращаясь к образам античности, Баженов с волнением развертывал офорты Пиранези и следовал за полетами его необузданной фантазии. Казалось, никто, кроме Пиранези, не мог чувствовать мощь базилик Константина, терм Каракаллы и по деталям римских руин воскрешать античность во всем ее блеске и колоссальности. Не потому ли необузданный фантазер и безумствующий романтик Пиранези с берегов Тибра заставлял учащеннее биться сердце другого романтика на берегу Москва-реки…
Баженов высоко ценил западноевропейскую культуру, но переносить ее на русскую почву, без учета реальной обстановки и традиций русского искусства он считал неразумным. Сочетая западное мастерство с русским народным творчеством, с его национальной самобытностью, нужно, думал Баженов, создавать своих мастеров и свое мастерство. Василий Баженов сознавал всю силу, смелость и оригинальность русского народного гения, и, сын народа, он в своих творческих изысканиях всегда обращался к этим чистым и близким ему источникам.
Однако в руководящей верхушке русского дворянского общества последней трети XVIII века насаждались и были модны другие идеи, противоположные взглядам Василия Баженова.