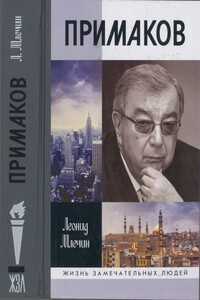Пархатого могила исправит, или Как я был антисемитом | страница 11
Пердек начинался от Ждановки и упирался в Красного курсанта. Через Ждановку, как раз напротив Пердека, был деревянный мост на стадион имени Ленина, внешне пристойный стадион, каменный, устроенный амфитеатром, но всё равно какой-то захолустный; его сперва невероятно долго сооружали, всё мое детство, а потом мало использовали; , единственная ленинградская команда класса А, всегдашний аутсайдер, играл не там, а на островах. С Пердека по Съезжинскому (да-да, именно так) переулку можно было выйти на Малый, а там и на Большой проспект Петроградской стороны. На Малом (угол Красного курсанта) была женская школа №66, бывшая и будущая гимназия, ее окончила моя сетсра Ира, четырнадцатью годами старше меня; на Большом в доме 18 — мужская школа №52, в здании, мало для этого приспособленном (потом там долгие годы помещался книготорговый техникум). В эту школу меня и определили в первый класс в сентябре 1953 года.
Чувство родины было у меня обострено до крайности, и 52-я школа, во всех отношениях жалкая, вошла в это чувство неотъемлемой составляющей. С такой силой вошла, что когда на следующий год ввели совместное обучение, и я оказался в 66-й школе, я потребовал перевода обратно. Потребовал — и добился. Первое самостоятельное движение воли. Чем была нехороша 66-я? Это была чужбина. Нет, было еще одно движение воли. На чужбине я сидел за одной партой с Леной Борисовой, мы повздорили, и я попросил меня пересадить. На вопрос учительницы ответил:
— Мы не сошлись характерами, — чем вызвал дружный смех в школе и дома. Такова была стандартная формула, объяснявшая развод супругов.
Со второй четверти второго класса я вернулся на родину: на Большой проспект, и там влюбился. Нельзя сказать, чтоб это была моя первая любовь; самая первая случилась до школы; но эта — оказала колоссальное влияние на мою жизнь: можно сказать, изуродовала ее, а можно в ней и благословение божье увидеть. Какая любовь в восемь лет? А вот какая: расстался я с возлюбленной, будучи студентом пятого курса. Расстался после ее слов:
— Я не люблю.
Пикантно здесь то, что во втором-то классе выделил я возлюбленную не иначе как по зову предков: потому, что она была на еврейку похожа. Это мне сейчас такое мерещится; шальной ход мысли — и спекулятивный; что тут проверишь? Я даже больше скажу: инстинктивно — во втором классе и я ; дворовая жизнь уже произнесла свое веское слово, а дома молчали. Но генетические механизмы могли работать на подсознательном уровне — и даже на более глубоком, чем подсознание. Единственная во всем классе, моя Беатриче казалась девочкой восточной, но не монголоидного, а словно бы персидского типа. Позже ее, в самом деле, часто принимали за еврейку, что ей досаждало. Была же она, скорее всего, болгарских, а значит, вероятно, отчасти турецких кровей. Тоже — догадка. Ее фамилия с некоторой натяжкой отсылала к одному знаменитому болгарскому городу или к одному незнаменитому украинскому, где, впрочем, те же турки свой генетический след тоже очень могли оставить. Глаза у турчанки были зеленые; я это вполне уяснил не во втором классе и не на пятом курсе, а еще два десятилетия спустя.