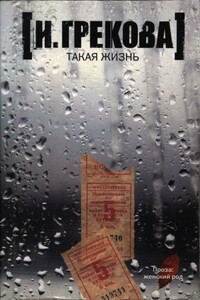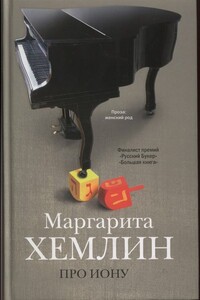Про Иону | страница 87
Я лежала на той же перине, что и мертвый Гиля всего год назад. И подушки те же. И они меня душили сами по себе. И теперь Блюма имеет совесть приглашать меня на лето в мой же дом.
Ночью я проснулась. Из комнаты Блюмы и Фимы до меня доносились уханье, стоны, хлюпанье и что-то еще. Я повернулась на звук. Кровать заскрипела. Понятно, что там происходило. Но надо же закрывать дверь!
Чуть ли не в ту же минуту у них в комнате зажглась лампа. Появилась Блюма — как привидение, в широкой ночной сорочке, с распущенными длинными волосами. Всклокоченная жирная старуха.
— Извиняюсь, Майечка. Мы тебя разбудили. Извиняюсь. Спи, спи. Отдыхай. Я тебя утром разбужу. На работу буду идти и разбужу. Фима ж так рад, что ты приехала. Так же ж рад.
Я пролежала с открытыми глазами до утра. Молила Бога, чтобы обернуться в один день и не задержаться тут ни на минуту.
Так и получилось. Всюду в инстанциях меня встречали приветливые, доброжелательные служащие. Понадобились небольшие взятки, но как же иначе. К вечеру документы оформились.
Блюма вела себя как хозяйка положения. Насколько у нее хватало ума, настолько и вела. Я осадила ее вежливо, но решительно.
А Блюма виновато улыбнулась и протянула:
— Майечка. Извиняюсь. Ты меня неправильно поняла. Ты, наверное, думаешь, что я не умею держать свой язык. Нет, ты сильно ошибаешься. Я — могила.
Что она имела в виду, я не выясняла, чтобы не дошло до скандала. Поняла одно: Блюма — свинья.
Я носила изящные часики на золотом браслете, подарок Марика, они достались ему по случаю от какого-то офицера, служившего в Германии.
Миша сразу обратил внимание на мою обновку, хоть обычно все принимал равнодушно. Я рассказала, что часы трофейные, из Берлина.
Он попросил глянуть. Повертел, браслетик погладил и говорит:
— Ты, мама, наверное, знаешь, что немцы из еврейских зубных коронок изготавливали изделия. И это тоже, может быть.
И пошел себе на кухню, играть в шашки. Было ему тогда лет пятнадцать.
Откуда у него сведения про коронки? В школе такое не говорили. Теперь понятно, чье влияние.
И вот эти злосчастные часы я надела к Блюме в Остер. Без мысли. Золото есть золото.
Блюма смотрит на мои часики и говорит, смотрит и говорит. После всего, сказанного выше, практически без перерыва:
— Какие симпатичные часики. Золотые?
— Золотые. Хочешь, Блюмочка, подарю?
— За что? — Блюма разыграла удивление.
— За то, что ты за домом смотришь, за Фимой ходишь. Хочешь?
Я снимаю часы с руки и кладу на стол. Прямо на Мишины письма — они лежали там с вечера. Блюма, наверное, надеялась, что я буду их читать ночью. Блюма, вроде вслепую, сунула часы в карман передника и заверила меня: