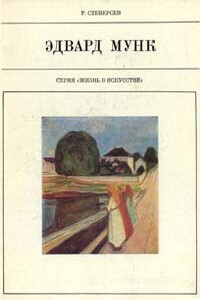Питер Брейгель Старший | страница 83
И это еще не все… На крыше шатра разложен костер, над огнем висит котел, а в нем люди: обнаженные мужчина и женщина, не чувствующие пылающего пламени. Самозабвенная ярость любовной страсти.
Вот человек в ужасе закрывает голову руками; на него сейчас обрушится яростный удар палицы. Вот звери, пожирающие людей, и пчелы, жалящие их. Вот аисты — обычно символ миролюбия и домовитости, — яростно сражающиеся в воздухе.
Но во все это нагромождение пугающего и ужасного внезапно врывается комическая нота. Художник не только пугает зрителей и ужасается сам, но решается посмеяться над кошмаром, который он создал. Смех не рассеивает наваждения, но показывает, что взгляд художника не совпадает со взглядом зрителя, что художник сам ищет выхода и помогает зрителю его искать. Пока только в насмешке.
Смешон рыцарь на петушьей ноге, смешную шляпу, украшенную обглоданной рыбьей костью, надевает художник на страшную фигуру — символ самоистребительной ярости.
Это смешение ужасного и смешного сближает Брейгеля с теми народными мастерами, которые отваживались в сцены Страшного суда кощунственно вносить смешные образы.
Но смех, едва зазвучав, умолкает, улыбка гаснет. На самом дальнем плане нестерпимо резкий контраст: в одном углу такое понятное в этой поэме ярости черное небо пожарищ, а в другом спокойно парящие птицы, гладкая поверхность моря, лодка со спущенным парусом.
Но там, где грозное небо переходит в небо спокойное, там — самое крошечное, но, быть может, самое главное, лишь запрятанное в глубину изображение на этом листе: черный силуэт виселицы, фигурка повешенного, палач, взобравшийся на перекладину, толпа, обступившая место казни, — не символ, не аллегория — реальность.
Небо в пожарищах и виселица на горизонте очень часто будут появляться в работах Брейгеля. Изображение пыток, казней и пожаров, нападения вооруженных грабителей на беззащитных людей — это жизнь, какой она была во времена Брейгеля, жизнь, какой он ее видел. И зритель — современник художника, которому были яснее многие намеки, скрытые от нас ходом времени, развитием языка, забвением многих метафорических смыслов, — мог воспринимать гравюру как нагромождение разрушительных сил, направленных и на окружающих и на самих себя, как сцепление убийств, мучительства, казней, зверств — с одной стороны; обнаженной беззащитности, беспомощности, обреченности — с другой, как воплощение порока ярости вообще и как воплощение и осуждение слепой и фанатичной ярости своего времени.