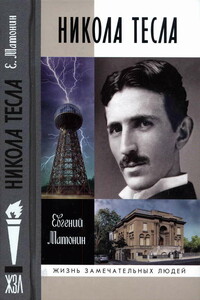Козьма Прутков | страница 13
Свои лирические излияния пишущий вельможа регулярно предавал гласности в виде сборников и собраний. Важную роль играло здесь честолюбие: престиж поэта в русском обществе того времени был чрезвычайно высок, а значит, и высока была цена поэтической славы. Поэт тогда чувствовал себя неким божественным вестником. Его призвание воплощалось в служении, учительстве, миссионерстве, и потому он считал себя вправе самостоятельно формировать собственную читательскую аудиторию. Автор ревностно заботился о тиражах и переизданиях своих произведений, следил, а по мере возможности и влиял на их распродажу. Никакого отношения к коммерции это не имело.
Коммерция презиралась. Зато к ощущению вверенной ему свыше культурной задачи это имело прямое отношение. Самые уважаемые поэты не стыдились того, что их книжки плохо расходятся, и печатали новые тиражи, медленно, но верно окультуривая тот наитончайший еще слой общества, который усваивал идеи Просвещения через светскую книжность.
Случай с графом Хвостовым был, однако, особый. Он-то сам верил в свою избранность, да вот беда: не все окружающие умели ее оценить. И приходилось Дмитрию Ивановичу втайне выкупать в книжных лавках свои тиражи и затевать новые под тем предлогом, что прежние, дескать, разошлись… Так по нарастающей он довел дело до Полного собрания стихотворений в семи томах, отпечатанного в типографии Российской Императорской академии в 1821–1829 годах.
По наблюдению Ю. Н. Тынянова, игра, которую затеял граф-рифмотворец, «принимает гомерические размеры… Хвостов шлет свой мраморный бюст морякам Кронштадта. Именем графа назван корабль. Хвостов раздает свои портреты по станциям. <…> [Он] — член академий. Критики-панегиристы… состоят на его специальном иждивении и получают места профессоров. Он проживает свое состояние на этой азартной игре в литературу и славу. <…> Для него не находится места даже в „Сумасшедшем доме“ Воейкова»:
А все потому, что «его век давно умер, а он проявил необыкновенную живучесть. <…> Черты… поэта, уверенного в своем таланте, раздулись до невероятных размеров. <…> Хвостов откликался на всякое событие»[39]. В последнем он прямо наследовал Неёлову. Разница состояла «только» в качестве откликов. У Хвостова они носили характер самопародии — притом что сам автор не сомневался в серьезности своих намерений. Намерения, вероятно, и были серьезными, но творения получались смешными.