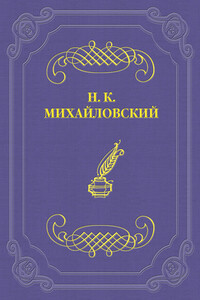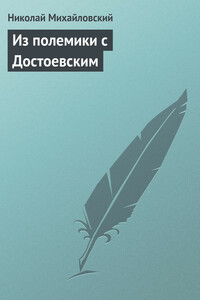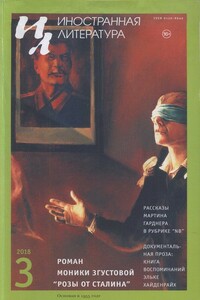О Л. Н. Толстом и художественных выставках | страница 14
В конце книги Эннекен делает набросок исторической теории, в силу которой история есть взаимодействие выдающихся личностей – героев, вождей и масс. Он горячо протестует против столь же «ложного», как и «легко воспринимаемого» положения, «отделяющего один от другого оба элемента, которыми совершается каждое историческое событие, – вождей и массы, – и дающего перевес последнему над первым» (189). Нас не интересует здесь историческая теория Эннекена, да и у него она является как бы придатком к эстетической теории. Она служит ему лишь для пояснения последней путем параллели между историческими «героями» и художниками, с одной стороны, толпою, «массами» и почитателями художника – с другой. Было бы, однако, очень рискованно придавать титул героя всякому художнику, хотя бы и имеющему больший или меньший круг почитателей. По крайней мере надо в этом разобраться и условиться. Можно, пожалуй, уподобить историческому герою, властно ведущему толпу за собой, всякого талантливого художника – живописца, поэта, актера, музыканта, певца, внушающего зрителям, слушателям и читателям известные чувства и в этом смысле властвующего над ними. Но можно требовать от героя в искусстве и большего – такой яркой оригинальности, которая вызвала бы не только почитателей, проникающихся его образами и картинами, но еще «толпу» в другом смысле, многочисленных подражателей, иногда высоко талантливых, которые в свою очередь чаруют слушателей, читателей, зрителей.
Такими героями, например, в русской литературе были Пушкин и Гоголь.
Приближение весны в Петербурге ежегодно бывает отмечено каким-то пароксизмом художественных наслаждений. Еще не успевают закрыться двери театров, как уже начинаются художественные выставки, число которых растет с каждым годом, потом концерты, еще концерты, еще выставки. И все концерты и выставочные залы полным полны, да и вне их, на улице, дома, в гостях, в газетах, вы сталкиваетесь с отголосками пережитых художественных впечатлений: идут разговоры о собственном нашем г. Фигнере и чужестранных знаменитых концертах, об английской выставке, финляндской, передвижной, академической. Что это значит? Действительно ли мы, петербуржцы, так жаждем художественных наслаждений в смысле переживания чужой жизни? Спустимся немножко с этих высот чистой теории и посмотрим на некоторые осложнения того интереса к искусству, который мы только что в минувший сезон обнаружили.
Я не был на выставке картин английских художников, но вот что читаем в «Русских ведомостях» об эффекте, произведенном этой выставкой в Москве. Выставка «пользуется очень большим успехом у публики. За неделю ее пребывания в Москве администрация выставки получила входной платы 2 616 руб. Посетителей за это время перебывало до 4 000 человек. Картин продано пока всего пять на сумму 12 000 руб., что с приобретенными в Петербурге картинами составит более 80 нумеров. В настоящее время большинство выдающихся полотен уже распродано. Выставка особенно усердно посещается по вечерам, от семи до одиннадцати часов, когда играет цыганский оркестр И. Риго, красиво и с огнем исполняющий преимущественно штраусовский репертуар. В эти часы залы совершенно переполнены, что значительно затрудняет осмотр выставленных произведений. Много мешает также электрическое освещение, благодаря которому значительно меняется колорит масляных картин и совершенно пропадают акварели. Не совсем удачно освещены и некоторые картины в верхних рядах».