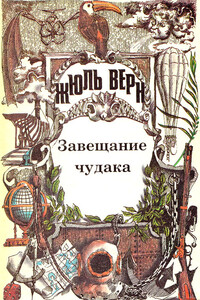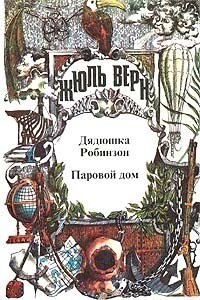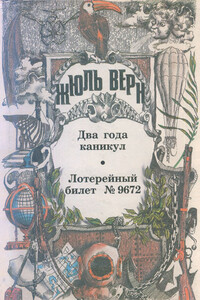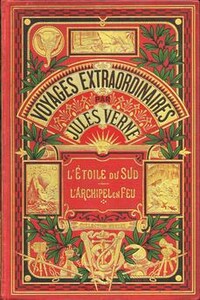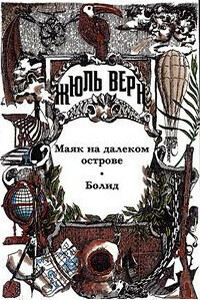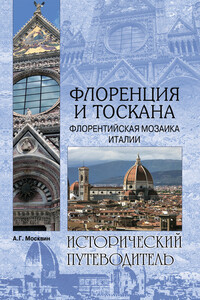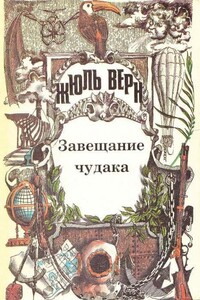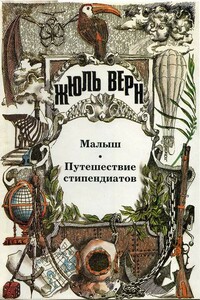Жюль Верн — историк географии | страница 10
Хотя «История великих путешествий» написана в основном в соответствии с хронологией (что вполне естественно для подобного рода работы), но все-таки в ней заметна и определенная классификация материала. Путешествия древности выглядят либо чисто случайными, либо совершенными из простого любопытства, хотя и обусловленного в какой-то мере коммерческой выгодой. На смену им приходят религиозные паломничества средневековья. С началом Возрождения, и даже в преддверии его, в далекие странствия начинают пускаться либо с чисто коммерческими целями, либо с дипломатическими, но тесно переплетенными с той же коммерцией. Великие географические открытия вызывались к жизни не только техническим прогрессом и поисками новых торговых путей, но и настоятельной необходимостью отыскания новых земель, пригодных для заселения. Эта последняя задача была осознана уже в ходе географической экспансии европейцев. Поэтому не случайно автор, прерывая поступательный бег легкокрылых парусников по просторам океанов, останавливается на вещах, вроде бы не имеющих прямого отношения к открытию Земли: покорение пришельцами туземных племен и народов, захват территорий коренных жителей, убийства и ограбления аборигенов, настойчивые попытки белых конкистадоров обратить «дикарей» и «неверных» в единственно правильную религию — веру в Сына Божьего Иисуса Христа. Впрочем, в целом ряде случаев открытие территории весьма трудно отделить от покорения ее. Вспомним хотя бы рассказ о пребывании на Канарских островах отряда Жана де Бетанкура. К моменту появления французских завоевателей Канары были заселены таинственным народом гуанчей, а первое посещение этих островов человеком относится к концу 1 тысячелетия до н. э., когда до островов добрались карфагенские мореплаватели[14]. После нескольких глав, повествующих об относительно спокойных странствиях, автор резко меняет тон изложения, и до предела драматизированное повествование становится как бы прелюдией к главной теме первого тома (а ее можно распространить на всю верновскую «Историю») — кровопролитному столкновению взаимно чуждых цивилизаций, столкновению антагонистических культур.
В целом ряде случаев хронологическая последовательность нарушается. Но эти нарушения почти не сказываются на цельности общей картины географических исследований в планетарном масштабе. Лишь рассказ о географических открытиях викингов переносится в конец тома, туда, где повествуется об исследованиях полярных областей. Но ведь викинги плавали не только в арктических водах. Они хорошо освоили и Средиземное море, такое знакомое автору книги (на гонорар, полученный за «Географию Франции», он купил яхту «Сен-Мишель» и совершал непродолжительные плавания вдоль берегов старушки Европы), а главное — добрались до далекой благодатной страны, названной Винландом. И находилась она, эта Виноградная страна, на побережье Северной Америки! Таким образом, викинги открыли для себя Новый Свет на полтысячелетия раньше испанцев. Помещение главы об этих поразительных странствиях перед рассказом об историческом плавании Колумба уменьшало драматический накал повествования о великом испанце и, значит, снижало читательский интерес к сути изложения. Верн, как опытный драматург (а мы знаем, что несколько его театральных произведений имели успех у взыскательной парижской публики), просто не мог допустить такого и поэтому перенес главу о походах викингов ближе к концу тома. Видимо, по той же причине он и не упомянул о плавании средневекового ирландского монаха Брендана к американскому берегу. (Правда, во времена Верна этот мореходный подвиг относили к разряду грубых вымыслов, и лишь в наши дни плавание Тима Северина доказало принципиальную возможность подобного путешествия, заставив поверить в вероятность древнего предания.)