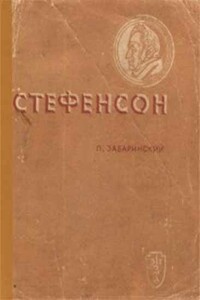О Бялике | страница 15
Эта поэма, прославлявшая предков в стыд и в поучение эпигонам, появилась в 1902 году. Всего через год, 7 апреля 1903 года, разразился Кишиневский погром и показал воочию, с кровавой осязательностью, как невероятно глубока была на самом деле пропасть между предками и эпигонами. Тогда Бялик обрушил на склоненное темя своего народа самую ужасную страницу, какую только знает еврейская литература после пророков: он написал "Сказание о погроме".
Кишиневское событие всегда будет у нас днем национального траура; но не в том историческое значение этого страшного дела. Кровавая Пасха 1903 года отмечает в истории еврейского пробуждения перелом, межу, разграничивающую две эпохи, две психологии. "Еврейская улица" до Кишинева и после Кишинева далеко не одно и то же. Конечно, перерождение началось задолго до этого дня, национальные и революционные течения в еврействе давно уже свидетельствовали о нарождении новой национальной воли. Но пережитки традиционной пассивности еще глубоко сидели в массовой душе; мятежники или мечтатели всех толков, как те, что созидали во имя Сиона, так и те, что боролись во имя социализма, еще, в сущности, не имели прочных корней в настоящей, почвенной, цельной еврейской массе. Масса иногда интересовалась ими, иногда побаивалась их, но прямой связи между их и своей волею не ощущала; они были и оставались сами по себе, а масса — сама по себе, и в ее глазах пассивное восприятие не нами творимой истории было по-прежнему наилучшей и самой подходящей из политических систем. В Кишиневе история подвергла перерождающееся гетто большому испытанию, страшному экзамену на зрелость. И перерождающееся гетто провалилось на испытании, жалостно, постыдно и ужасно. Его дети оказались еще не подготовленными к открытой борьбе; у них еще не нашлось ни отваги для отпора, ни гордости для того, чтобы скрестить руки и ждать смерти на пороге своего дома...
Смутное чувство, сложное, непонятное, овладело при вести о Кишиневе всеми еврейскими сердцами в огромной России. Это не было простое чувство горя. В глубине этого чувства таилось еще что-то жгучее, мучительное, что-то такое, из-за чего почти забывалась самая скорбь — и чего никто все же не мог назвать. Тогда Бялик бросил в лицо своим обесчещенным братьям "Сказание о погроме" и открыл им, что это за чувство, имени которого они не знают. Это был — позор. Более, чем день траура, то был день срама: вот основная мысль этого удара молотом в форме поэмы. Она в художественном смысле далеко не лучшая у Бялика. Она не может похвалиться ни такой скульптурной чистотой образов, как "Мертвецы пустыни", ни такой роскошью красок, как "Зори", ни такою глубиною поэтической концепции и кристаллической обработанностью языка, как "Свиток о Пламени". Но это — одно из тех редких литературных произведений, которые кладут печать на свою эпоху. Бялик нашел слово, которого недоставало, и это слово совершило чудеса. Историческая дата Кишинева имеет двойной смысл: это, с одной стороны, полное выражение, полное воплощение всего приниженного и пассивного, что скопилось веками в еврейской душе, — но, в то же время, это и отправная точка новой эры. С этого момента идея национальной самодеятельности из кабинетной или, в лучшем случае, подпольной окончательно становится всенародной. Позор Кишинева был последним позором. В 1904 году был Гомель; в 1905 году несколько сот погромов разразилось по всей России; скорбь еврейская повторилась еще беспощаднее прежней — но срам не повторился. Второе испытание, количественно более ужасное и нравственно более оскорбительное, ибо оно совпало с великим всероссийским ликованием, доказало, однако, что новая еврейская душа уже достигла своей зрелости... Конечно, это не была заслуга одного человека — это сделала жизнь, история, сила вещей. Но история находит иногда людей, рукам которых она доверяет свой посев. В важный и трудный момент новой еврейской истории, на переломе двух эпох, эта роль выпала Бялику. Только на час, но часа этого мы никогда не забудем.