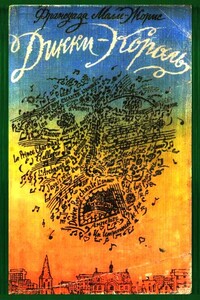Бумажный домик | страница 75
— Трини?
— Да, Трини. Но самое потрясающее…
— Что?
— Вместе с ней исчезли все мои рубашки, все рубашки Даниэля, столовое белье и полотенца.
— !!!
— Час спустя после ее отъезда я встретил Виолетту (еще одна испанская знаменитость улицы Жакоб), и она сказала мне: «Так, значит, Трини вас покинула? Вы бы хоть отвезли ее в Орли на машине, у нее было столько багажа!»
Хоть я еще не совсем оправилась и обоим нам было невесело, мы не смогли удержаться от смеха.
Долорес, добрая душа, покидает улицу Сены, чтобы вновь водвориться на улице Жакоб. Думаю, ей просто было там скучно. И к тому же она поругалась с управляющим.
— Он хотел заставить меня мыть стены на лестнице. Разве это входит в обязанности консьержки? Само собой, я ему ответила: «Может, вам еще и ноги помыть?» А ему это не понравилось…
Однако это не мешает ей теперь чувствовать себя у нас незаменимой. При первом же замечании:
— Да, конечно, жаркое подгорело, но зато все ваши рубашки целы!
На самом деле все не так-то просто. Перед отъездом Трини открылась Виолетте:
— Дольше я оставаться не могу. Они мне слишком дорого обходятся.
И действительно, все эти бифштексы, сардины и другие кулинарные роскошества необъяснимы, если только бедняжка не вкладывала в них и свои деньги тоже. Я задумываюсь.
Долорес. Теперь мне все ясно. А раньше я никак не могла понять. Вы мне говорили: «Она великолепна», — а все предыдущие хозяйки говорили: «Она никудышная».
— Вместо того чтобы мне ее рекомендовать, ты бы лучше меня предупредила.
Ло. Да ведь у вас же всегда такая прислуга…
И все же я понимаю: если Трини всегда говорили, что она «никудышная», ей захотелось взять реванш. Наше восхищение, должно быть, раззадорило ее. Я почти благодарна ей за то, что несколько недель пребывала в прекрасной иллюзии.
Она говорила:
— Я останусь в вашем доме, пока девочки не выйдут замуж.
Она говорила:
— Ни о чем не думайте, работайте…
Она говорила:
— Вы мне стали как дочь родная.
Что ж, все это время она просто подлаживалась к нам? Как-то я с блюдом в руках поскользнулась на брошенной детьми авторучке и сильно ушибла бедро. Она упала в обморок. Она говорила:
— Вы слишком много работаете. Вы работаете, как женщины в моей стране. Мне вас жаль.
Она вздыхала, проходя мимо моей пишущей машинки, словно это орудие пытки.
— И все это время она только и думала, как бы унести ваши рубашки, — возмущается Долорес. — Эх, попадись она мне!
Все это время… Нет, вряд ли. Я думаю, что все это время она думала, как было бы приятно жить в кругу настоящей семьи и чувствовать себя полезной, нужной, незаменимой, и чтобы ее хвалили, чтобы ее благословляли каждую секунду, — разве мы все не мечтаем об этом? Но такая радость дорого стоит, и как многие бедняки, она считала, что если уж давать, то обязательно деньги. А потом ей вдруг все это надоело, она видела, как тают ее сбережения, а может, и сама стала сдавать… Но смириться с тем, что она уже не совершенство, не чудо, она не могла… Она сбежала. А уж коль скоро она сбежала, перечеркнула, уничтожила свой образ, почему же заодно не прихватить и наши рубашки?