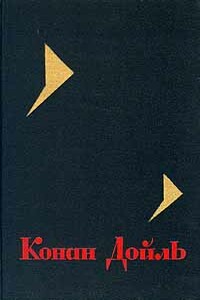Ветеран Цезаря | страница 79
— Ещё бы! — поддержал меня Цицерон. — Недаром ведь Эвандр[65] научил нас, италиков, письму, а мой либертин Тирон[66] изобрёл значки для записи быстрой речи. Всё, что я сказал, — здесь.
Он протянул руку к шкафу и достал свиток.
— Возьми! И унеси меня в Брундизий. Не удивляйся, что я так говорю. Всё в человеке смертно, кроме мыслей и речей. Что осталось от Демосфена? Кто знает, где его могила? А речь звучит и теперь, через четыреста лет.
Цицерон отступил на шаг и произнёс с пафосом:
— Много разговоров, граждане афинские, ведётся у нас о тех преступлениях, какие совершает Филипп. Все люди, начиная с вас самих, уступили ему возможность делать всё, что угодно, и можете ли вы его теперь обвинять?
— В каждое время был свой Филипп и свой Демосфен, — заметил я.
Позднее, познакомившись с речами Цицерона, я понял, что он один достоин называться римским Демосфеном. Мне уже не казалось смешным его честолюбие. Как часто мы лишаем ораторов и поэтов похвал и одобрений, которых они заслуживают. А полководцев, добившихся победы, мы награждаем неумеренными почестями. Мы сами себе создаём кумиров, которые требуют у нас кровавых жертв.
Глава третья
— Ты отец! Ты отец! — встретил меня Валерий радостным возгласом.
Я бросился к Формионе. На руках у неё мой сын! Я был вне себя от счастья. В каком-то гуле прозвучали слова:
— Как мы его назовём?
— Гнеем. Так звали отца.
— Души родителей благословляют внука, — молвил Валерий.
По щекам его текли слёзы. Вытерев их ладонью, он продолжал:
— Если боги продлят мою жизнь, я выучу Гнея всему, чему я научил тебя.
— Только пусть он избегает пиратов! — пошутил я.
— И работорговцев! — сказала Формиона с дрожью в голосе.
Моя Формиона не любила вспоминать об испытаниях, выпавших на её долю. И мы никогда не спрашивали её о том, что она пережила в доме Стробила.
— Забудь обо всём, — сказал я, покрывая бледные щёки Формионы поцелуями. — Ведь мы вместе. И навсегда.
Потом, вспоминая эти слова, я не мог себе их простить. Боги завистливы и не любят чужого счастья. Но я не буду забегать вперёд.
Осень пахла винным отстоем и смолой вытащенных на берег кораблей. Для меня же она имела свой особенный аромат — запах дорожной пыли. Снова в Рим! Там в домах сочинителей и переписчиков я был уже своим человеком. Меня дожидались поэмы, трагедии, диалоги, речи, трактаты. Плоды горьких раздумий или внезапного озарения — они были созданы людьми для людей.
Мне нравилось моё занятие, и я не променяю его ни на какое другое! Я любовался корешками пергаментных книг, натёртых пемзою, и матовой желтизною папируса. Но больше всего я любил толчею в моей лавке, шелест разворачиваемого свитка, неторопливую речь знатоков-философов и возгласы любителей поэзии. Мои покупатели. Я знал вашу душу. За несколько сестерциев я отдавал вам миры, куда нет дорог. Я вёл вас к мудрецам всех времён и делал их вашими собеседниками.