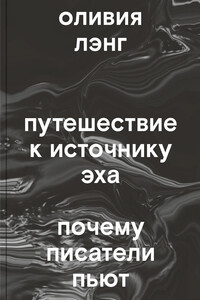Антропологическая поэтика С. А. Есенина: Авторский жизнетекст на перекрестье культурных традиций | страница 7
Есенину внушили, что человеческими существами особой природы являются колдуны и колдуньи.
Изображенный на иконах сонм бесплотных духов, среди которых ангелы и серафимы с человечьими лицами и птичьими крыльями, создавал зримое восприятие еще одного слоя антропологических существ. Они также нашли отражение в творчестве Есенина, в моменты благоговейного или, напротив, богоборческого созерцания иконописных ликов размышлявшего над идеями обновления и даже качественного преобразования христианства. На передний план выдвигается тема поэта-пророка, обладающего провиденциальными качествами, воспитанного мифологическими дедом с бабкой и Богородицей с иконы.
Основанием для идейного родства всех фантастических существ (измышленных писателями, вызванных к жизни народным мировоззрением, порожденных национальной ментальностью), критерием и мерилом их степени вочеловеченности оказывается человек, по сравнению с которым другие персонажи неизбежно становятся антропоморфными.
Школьные учебники истории и географии демонстрировали разные этнические типы, а с началом Русско-японской и затем Первой мировой войн цельный прежде мир распался на «своих» и «чужих», аборигенов и иноземцев, коренных насельников и иноэтнических завоевателей. Из опыта собственной жизни в иноэтническом окружении, из многочисленных путешествий по России и Советскому Союзу, из заграничного турне по Европе и США Есенин вынес личные впечатления о различиях человеческих типов, об их антропологических и этнических разновидностях. Поэт смело стал внедрять в художественные и публицистические сочинения целые описания и отдельные упоминания о представителях разных этносов. Изобилует этнонимами и квазиэтнонимами, этнонимическими обозначениями, иногда без конкретизации очерк «Железный Миргород» (1923): « дикий народ » – « коренной красный народ Америки » – «