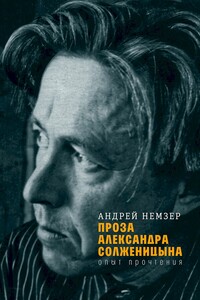Дневник читателя. Русская литература в 2007 году | страница 43
Чухонцев никогда не был тем, кого в старину называли «центральными фигурами», а теперь именуют «культовыми персонажами», но его значимое присутствие в русской поэзии ощущалось как непреложный факт по крайней мере с середины шестидесятых. Его скупо печатали; после появившегося в «Юности» крамольного «Повествования о Курбском» на несколько лет вовсе «отменили» (дозволив, впрочем, публиковать переводы); первая тоненькая, жестко обкорнанная книжица (с горьким и внятным названием «Из трех тетрадей») увидела свет накануне сорокалетия автора (1976)… Да и дальше – вплоть до перестроечного, поневоле приправленного политикой, «реабилитанса» – обычному читателю поэтический корпус Чухонцева был доступен далеко не в полной мере. Но – шлюсь на собственный опыт – всякое стихотворение, чудом досягнувшее «законного» тиснения или вынырнувшее самиздатским листком, било прямо в душу. То были стихи предельно современные – и обращенные в вечность, точно свидетельствующие о нашем «здесь и сейчас», но отнюдь в них не замыкающиеся, резко отменяющие – как и надлежит истинной поэзии – лживо-тоскливые антитезы «гражданственности» и «интимности», «традиционализма» и «новаторства», «почвенности» и «всемирности». Думаю, никто с такой остротой не сказал о муке издевательски ласковой и изуверски подлой несвободы «вегетарианских» времен, как Чухонцев в диптихе «Похмелья», поэме «Однофамилец», стихотворении («в известном роде») «Поэт и редактор», «Прощанье со старыми тетрадями…», «Двойнике», где, случайно увидев чистильщика сапог, молча гордящегося своим сходством со Сталиным, и прозрев его сталинские кровавые мечтания, поэт выдыхнул:
Как непосильно быть самим собой.
И он, и я – мы в сущности в подполье,
но ведь нельзя же лепестками внутрь
цвести – или плоды нести в бутоне!
Как непосильно жить. Мы двойники
убийц и жертв. Но мы живем. Кого же
в тени платана тень маньяка ждет
и шевелит знакомыми усами?
Не все ль равно, молчи. И ты был с ним?..
И я, и он – и море нам свидетель.
Ну что ж, еще волна, еще удар —
и радуга соленая, и брызги!..
Глубоко прочувствовав трагедию-фарс «двойников» и «однофамильцев», Чухонцев избежал участи чьего-либо аналога, настоятельно навязывавшуюся ему «контекстом» – как политическим, так и «литературным». Он оставался и остается собой, ибо, подобно своему Ивику, в самом темном лесу не только слышит вороний грай и угадывает скорый смертельный удар угрюмого злодея, но и чувствует воздух иного бытия.