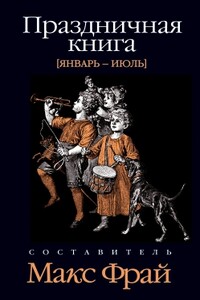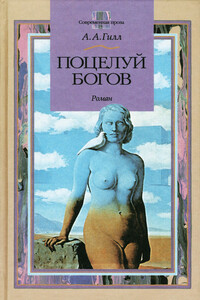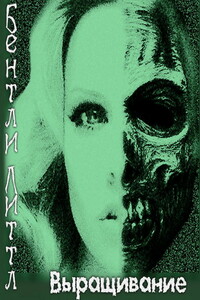Ночь на площади искусств | страница 23
Явление двух маэстро
У Матвея Кувайцева в его временной мастерской дело уже шло вовсю. Поначалу, конечно, Матвей опечалился, увидев слишком озабоченного и встревоженного Ткаллера. Прежде Матвей знал его другим: приветливым, улыбчивым. А тут пришел замкнутый, зашторенный, словно эти глухие окна. Явно директор не в себе. Очевидно, компьютер вычислил неподходящие или, того хуже, вовсе ничтожные пьесы, которых Ткаллер и названия не пожелал сказать.
Но его дело переплетное. Что положено, то он совершит по совести и по всем правилам, чтоб не стыдно было перед Москвой-матушкой. Когда Кувайцев уезжал из столицы, устроил небольшое застолье, и друзья ему наказывали: «Ну, Матвей Сергеевич, главное, не посрамись. Сработай ювелирно». Теперь что же получается? Он настроился на срочную, важную, незаурядную работу, сколько материалов привез: сафьян, юфть, лайку — все легкие дорогие кожи, приспособления для рельефного тиснения, а ему говорят: просто бархат. Двух цветов. Да это любой мало-мальский местный переплетчик сделает. Зачем его вызывали, тратились? И все-таки самое обидное то, что он даже не знает, ЧТО переплетает. Как работать? Такого никогда не было. И отказаться уже нельзя, и фантазию проявить невозможно. А без фантазии какая работа?
Напевая нечто среднее между «Дубинушкой» и «Катюшей», Матвей взялся готовить закройку бархатных тканей и картонных сторонок. На плитке в клееварке распаривался клей. Шнур Матвей признавал только пеньковый, но на такую «темную музыку» жаль и пеньку было тратить. Достал обычную тесьму с химволокном, принялся сшивать, разговаривая то с самим собой, то со своими старыми приятелями: иголкой, фанерными прокладками, линейками, переплетным ножом. Если иголка неохотно прошивала плотную неподатливую бумагу, называл ее аферисткой, шалопайкой или того хлеще — подлюгой.
Постепенно дурное настроение рассеялось. Матвей задумался, не прекращая работы и пения. Вспомнил лучшие свои творения, которые делал по особым заказам. Матвей реставрировал уникальное «Учение доминиканского монаха Фомы Аквинского», издание Святейшего Синода «Жития святых», трехтомник «Вселенная и человечество» под редакцией Ганса Кремера, а также двадцать томов «Деяний Петра Великого» и многое другое. Вот это были работы — и книги достойные, и спешки никакой.
Тогда его и приметил Ткаллер. Он приехал в Россию изучать акустику концертных залов, попал на ярмарку, где был зал редкой книги, и заинтересовался искусной реставрационной и переплетной работой. Ему представили Кувайцева. Ткаллеру понравилось, что Матвей держался с ним совершенно свободно и с удовольствием рассказывал о своем ремесле. Хорош при этом был его взгляд: с прищуром и своеобразной добродушной и тем не менее хитрой лукавинкой. Подобный прищур, растиражированный сотнями плакатов, сопровождал Ткаллера повсюду в этой стране. Но у Матвея было что-то свое, натуральное. Продолжили беседу уже в буфете, где выпили вечно юной русской водки под тихоокеанскую селедочку.