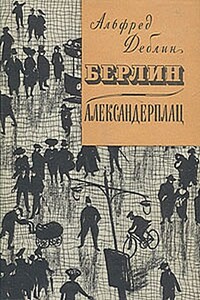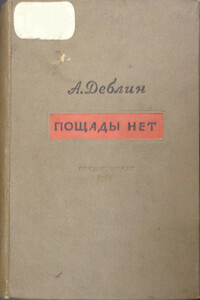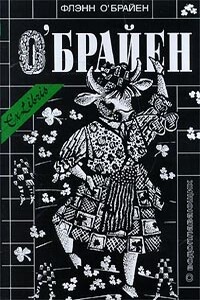Горы моря и гиганты | страница 25
исключает возможность той авторской позиции, которая и до Дёблина, и после него преобладала в романном жанре: исключает эпическую дистанцию.
Насколько всерьез отказывается Дёблин от обычной для автора дистанцированности, видно не только по содержанию Посвящения, но и по его адресату.
При феодализме литературные произведения посвящались какому-нибудь князю-меценату, для прославления которого автор и создавал свой труд. В буржуазную эпоху, напротив, литература стала восприниматься как независимое от чьих-либо поручений или интересов самовыражение творческой личности. Соответственно, посвящения — часто с намеками личного свойства — адресовались теперь близкому человеку или какому-нибудь идеальному образу. Так, старый Гёте посвящает окончательно завершенного «Фауста» одновременно собственным ранним фантазиям, связанным с замыслом этого произведения, и всем умершим друзьям. А в «Посвящении» к полному собранию своих стихотворений Гёте обращается к персонифицированной Правде и ей тоже вкладывает в уста какие-то слова, чтобы она отвечала поэту. Так самовластие поэта, прежде только прославлявшего власть сильных мира сего, становится поистине безграничным. Его милостью живут не только созданные им персонажи, но и те, кому он посвящает свой труд.
Только в этой исторической перспективе можно правильно оценить авангардную авторскую позицию Дёблина. Он посвящает свой роман той же силе, о которой в нем идет речь. Посвящает — повсеместно действующей жизненной энергии, которая движет как исторически активным человеком, так и всеми вообще проявлениями природы. Такое Посвящение, похоже, имеет нечто общее и с феодальными, и с буржуазными аналогами — но тем решительнее удаляется от тех и других. Как в феодальные времена, оно адресовано силе, благодаря которой автор только и может жить и писать, — но сила эта не воплощена в другой личности (занимающей более высокое общественное положение), а заключена в нем самом. И так же самовластно, как поэты буржуазной эпохи, Дёблин адресует Посвящение предпосылкам своего поэтического творчества — но предпосылки эти не являются его уникальной привилегией. Автор разделяет их со всеми другими живыми существами.
Значит, он разделяет их и с читателем. А читатель — с ним. Это, опять-таки, самоочевидно. Слишком самоочевидно. Ибо тот, кто самозабвенно читает книгу, вряд ли ощущает и уж тем более не задумывается вот о чем: что локти, на которые он опирается; его глаза, быстро скользящие по строчкам; его сиюминутные жизненные обстоятельства, обусловленные всякого рода побуждениями и порождающие новые побуждения, — что все это в таком виде и проникает в книгу, а книга проникает в него. Но именно на это нацелена романная конструкция Дёблина. Она должна