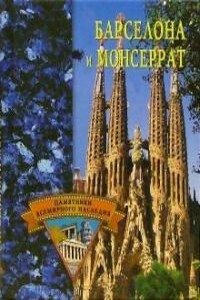Афина Паллада | страница 28
Дорога то высоко выбегала на горы, то пряталась в густых ивах у самой воды. Промелькнула вышка пикета возле одноарочного моста, сооруженного солдатами графа Воронцова-Дашкова за одну ночь для переправы горной артиллерии. Из-под копыт метнулась краснобокая лисица. Свищет ветер в развалинах древней монгольской часовни. Над горами, облаками и долинами несет стражу задумавшийся Эльбрус.
Далеко в разрывах тумана синеет Машук. Снова казачья вышка. Открылась ковыльная степь. Блеснул крест на колокольне Богунтинского редута.
За каменными стенами с бойницами церквушка, длинный сарай-арсенал, казачьи землянки и хаты. Уже и по эту сторону стен лепились мазанки, образуя улицу, заросшую камышом и барбарисом.
Лермонтов спешился. Залаяли собаки. Привязать коня не успел. Подбежали бойкие казачата, отогнали собак и смело взяли тисненый повод. Стоять рядом с конем для казачонка — все равно, что для правоверного видеть тень пророка.
Он вошел в хату, сложенную из слоистого синего камня. Перекрестился на суровые старообрядческие иконы. Осмотрелся в дыму.
По скользкому глиняному полу бродили прирученные фазаны и волчата. С ними пытался бодаться козленок. В бочках лежало соленое сало и зерно. У пылающего жерла русской печи гремела чугунами нарядная молодайка. Она смело поклонилась молодому офицеру и в ответ на приветствие поднесла ему полный чихирный ковшик. Лермонтов выпил, обтер губы рукавом шинели и спросил, отчего не видно казаков.
— Отважничают — кабанов бьют да оленей.
— А старики?
— Вон они за пасекой греются.
— Принеси нам туда чихирю.
Положил хозяйке монету и пошел по бурьянам над шумной и чистой, как слеза, Богунтой к пасеке.
Ульи — плетеные из ивняка сапетки — стоят пирамидками в горячей укромной балочке. На яркой соломе сидят старики. Поглаживают на плечах мохнатые овчины, прикрывают глаза высохшими ладонями, неспешно переговариваются. У каждого под боком ружье. Изредка, как из полной чаши, доплеснется в балочку винный холод горного ветра, снежной свежестью обдаст отжившие лица, и вдвойне тогда приятно пить густое солнце.
Но за горами стылая глубь могил. Тихо предаются солнечному разгулу, как некогда буйно пили звездную тьму казачьих разгульных ночей — с выстрелами, казенным спиртом и поцелуями в зарослях хмеля и медуницы.
Лермонтов по-казачьи поклонился собранию. Деды, завидя эполеты, молодцевато вытянулись во фрунт.
Кинули гостю бурку на солому и предложили рамку печатного меда.
— Чихирь идет, — ответил гость и прилег на бурку.