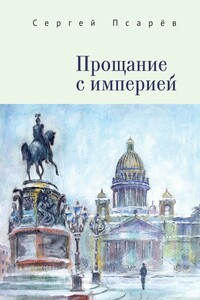Эстония. Взгляд со стороны | страница 12
Возможно, именно московская Олимпиада, ее социальные последствия, в Эстонии дали толчок процессам, которые постепенно начали набирать ход и в полную силу проявились через десять лет. Хотя, не будь Олимпиады, наверняка было бы что-нибудь другое. Потому что любая система любит стабильность и не терпит перекосов и резких отклонений. И лозунг «Лучше быть нищими, но свободными», все равно бы появился.
Сегодняшних наших соотечественников в Эстонии можно условно поделить на три категории.
Во-первых, это граждане Эстонии. То есть те, кто принял предложенные условия страны проживания, интегрировался в эту жизнь. Здесь и те, кто получил гражданство автоматически, а это, как правило, люди, предки которых, или они сами, жили в Эстонии до последней войны. Здесь и те, кто сдал экзамен на знание эстонского языка и получил гражданство в порядке натурализации. Эта группа наших соотечественников — граждан, как правило, образованна, законопослушна и лояльна к власти. А к России относится с пониманием.
Гражданами при желании родителей автоматически объявляются все, кто родился в Эстонии после 1992 года. Независимо от национальности.
Относительно большая группа соотечественников сразу отвергла любые мысли об эстонском гражданстве и предпочла гражданство российское. Тем самым они озадачили российское государство, и консульство в частности, необходимостью защищать себя и свои интересы в чужой, по сути, стране. И Россия защищает их так, как умеет. Потому что умеет именно так. Нельзя же защищать так, как не умеешь. Приобретенные плюсы такого решения — безвизовый въезд в Россию и обратно. Но и эстонская власть озадачилась — по сути сами у себя создали «пятую колонну».
Третья категория — те, кто так и не принял никакого решения. Это оказалось самым простым выходом. В результате — паспорт иностранца, лица без гражданства. Очень удобно. И язык учить не надо, и никаких обязанностей нет ни перед каким государством. Сиди себе дома, да телевизор смотри. Благо, русских телепрограмм больше даже, чем на исторической родине.
Эти жители Эстонии, кстати, имеют право участвовать в выборах местной власти, но правом этим пользуются редко и не все. Процент явки на местные выборы даже ниже, чем в России. Наш выборный пофигизм благополучно и беспрепятственно преодолел государственную границу.
Получается, что первая группа наших соотечественников — граждане Эстонии, вошли, влились в новую непростую жизнь. Нашли в ней свое место. А среди неграждан — у кого-то все сложилось, но у многих осталась растерянность, непонимание происходящего. Они так и остались жить в своем кусочке СССР, не веря в то, что все изменилось навсегда, и они уже совсем в другой стране. Россияне на родине поняли, что живут не в СССР, а в новом государстве с другими правилами жизни.