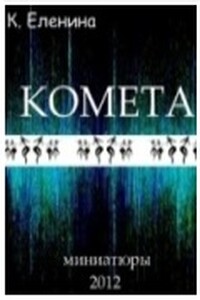Вампир | страница 27
— Люблю смотреть, как они струятся, — сказал он. — Может, вернешься в Лондон?
Беатриче покачала головой, повернулась к Эрику, прижалась щекой к его груди.
— Это пройдет. Просто я не люблю центральную Францию, здесь нет души. А Париж меня просто высасывает.
— Не замечал такого. Впрочем, последний раз я провел в Париже всего неделю, а до этого был здесь еще в правление Короля-Солнце. Тогда город был иным. А провинция тебе нравится?
— Камарг, а еще все, что к югу от Гаронны. Жаль, что сейчас зима. Хотя в Камарге и зимой хорошо.
— Я был бы спокойнее, если бы ты уехала из Парижа. Пятнадцать лет назад здесь было больше вампиров, чем в Лондоне.
— А сколько было в Лондоне?
— Гриппен, пять его птенцов, Штольц из Вены и я.
— Итого восемь. Я бы не сказала, что это много.
— В Ливерпуле жила хозяйка с двумя или тремя птенцами, и этого оказалось много: их выследили и убили в конце правления королевы Виктории. А в Париже в 1905 году была хозяйка и двенадцать птенцов, трое из которых вполне могли начать сами создавать вампиров.
— А могли погибнуть. Ты сам говорил, что война — скверное время.
— Могли. И даже не из-за войны, а в борьбе за власть с хозяйкой. Птенец, даже самый строптивый, сильно зависит от мастера и всегда слабее его. Я не знаю случая, чтобы птенец становился мастером, пока жив вампир, создавший его. Исключением был Штольц, но его мастер обитал в Вене, и Штольца убили прежде, чем я или Груммар узнали, что он осмелился сотворить птенца.
— А то бы его убил ты?
— И его, и птенца.
— Вампиров так мало, а они убивают друг друга в борьбе за власть?
— Да. Чем меньше их, тем меньше опасность. Вампиры не делят территорию, как хищные звери. Каждый считает свой город своим угодьем. Убежищ мало, две одинаковых смерти в одном районе вызывают настороженность… Ты даже не представляешь, насколько я счастлив, что освободился от этого.
— Ты счастлив?
— Да. Особенно тем, что ты со мной.
— И ты хочешь, чтобы я уехала.
— Я прошу тебя об этом, но ведь ты никуда не уедешь.
— Ты не слишком недоволен.
— Мне тяжело расставаться с тобой надолго.
Весь день они гуляли по старому Парижу. Эрик впервые рассказывал о том времени, когда он был действительно юн. То, что началось как рассказ о Европе Средневековья, вылилось в трехчасовой рассказ семье, о детстве и юности: жесткий, холодный и требовательный отец-придворный — заоблачное божество, раз в год приезжавший домой, полусумасшедшая бабка-бретонка, всю жизнь боявшаяся призрачных норманнов и назвавшая единственного внука языческим именем, чтобы защитить его от нашествия, которое никогда не случится; девятый день рождения, нежное расставание с единственным другом — заикающимся нищим идальго, учителем геральдики, долгое путешествие в Мадрид, ко двору, где все чужое, чарующее и враждебное; обязанности пажа, душащий воротник и тесный камзол с колючим шитьем, скованность, сдержанность, возвышения и падения, фехтование и охота, музыка, мессы, балы, капризы и жестокость принца, призраки дворца, запахи страха, яда, смерти, цена монаршей привязанности; путешествие в Британию, английский двор, любовь, унижение, оскорбленная гордость, кровоточащее сердце, страстное стремление к смерти и внутренний запрет на самоубийство — не религиозный, а просто «идальго не должен…», — ставший сутью характера; кабацкие драки — эспадрон против матросского тесака и дубинки, сутулый арфист-шотландец, завораживавший музыкой и участием, клочья жесткого гофрированного воротника, жестокий поцелуй в обнаженную шею, ужас, замирающие удары сердца — и выворачивающая смертельная горечь темной крови мастера…