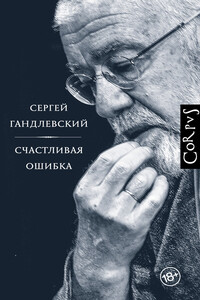Эссе, статьи, рецензии | страница 56
Испытавший щедрость провидения, он и всякого, попавшего в поле его зрения, оделяет приязнью. Калмыка называет “другом степей”, Туманскому приписывает “дивные стихи”, в счастливцы, награждая его сознанием собственного счастья, посвящает случайного спутника, нацарапавшего в Арзруме на стене имя своей жены.
Дар, опыт творчества, великодушие приоткрыли Пушкину устройство мира. Возникает искушение задать поэту требовательный вопрос: каков же механизм бытия? И Пушкин отвечает, но не упрощенно – схемой, формулой, числом, а созданием поэтической вселенной, которая по сложности соразмерна миру большому. Вопрошающий получает слишком исчерпывающий ответ.
Творец “энциклопедии русской жизни”, Пушкин энциклопедически точен во всем. “Несносный наблюдатель”, – сказал он о Стерне, мог бы сказать и о себе. Мощь гармонического вымысла сочетается в его сочинениях с зоркостью, умом и неромантической трезвостью суждений. На бескрайнем просторе пушкинского творчества душа может с благодарностью жить, развиваться, стариться, лишь изредка вспоминая, что вокруг – только призрачная твердь искусства. Читатель Пушкина получает в свое распоряжение целый набор чувств-эталонов, и мы вольны поверять ими свои переживания. Пишет ли он о ревности – скрупулезно названы все приметы этой напасти. Чувство мести? – “И мщенье, бурная мечта / Ожесточенного страданья”. Даже для плотской любви он находит слова, совмещающие в себе поэзию с чуть ли не научной определенностью. И если на середине жизни обернуться на прожитое и задуматься о будущем, то внутренний голос выговорит что-то похожее на подстрочник элегии “Безумных лет угасшее веселье…”.
Это внимание к жизни объясняется любовью к ней, когда, по словам Достоевского, жизнь любят прежде, чем смысл ее. И жизнь вознаградила Пушкина больше, чем смыслом, – истиной.
Размышляя над безвременной и, по всей видимости, случайной кончиной какого-нибудь поэта, задним числом обнаруживаешь в его стихах тайное, дополненное смертью содержание. Точно вдохновение помимо воли художника сосчитало его земные дни. На прощанье жизнь оделяет поэта прозорливостью, от которой становится не по себе. Чего стоит, например, “Сон” Лермонтова! Круг жизни замкнулся, век души прожит. Поэт сказал то, что должен был сказать, и ушел. И неуютная мысль приходит на ум, что задолго до реальной гибели смерть уже поселилась в поэте, велела сводить с жизнью последние счеты, наделяла ясновидением. И чувство утраты остается, но в случайность гибели верится все меньше. Это не случилось, а свершилось.