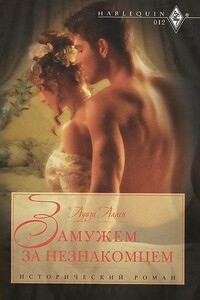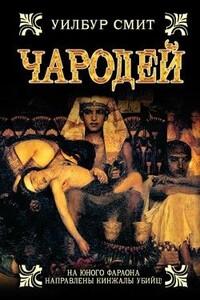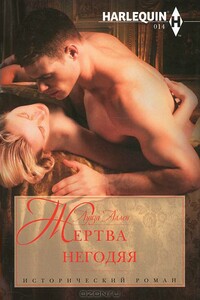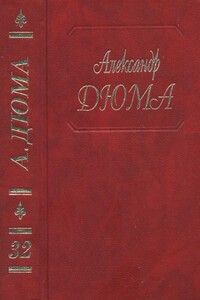Собирается буря | страница 19
Бледа посмотрел в горящие глаза младшего брата и внезапно подумал, что не хочет править народом. Лучше бы ему остаться в своем шатре с новой молодой девушкой, которую он недавно купил за золото — подарок Руги. Невольницу привезли из Сиракуз, тело рабыни было таким гладким. Когда она…
— Но сначала, — сказал Аттила, отступив от Бледы, а затем снова приближаясь и хлопая в ладоши, — сначала — организовать все.
Бледа вздохнул.
Съев нескольких крупных кусков темного мяса, но не запивая их вином, Аттила вышел с Чанатом к палаткам. На властителе не было короны или диадемы, богатых византийских одежд из пурпурного шелка. Он оделся всего лишь в поношенную кожаную куртку, штаны с подвязками крест-накрест, а ноги обул в грубые сапоги из оленьей кожи.
— Мой господин, — начал Чанат. — Ваш раб, Орест… Он обращается к вам, как к простому человеку. Я слышал его. Это неправильно.
— Раб?
— Ваш… слуга.
Аттила покачал головой. Орест больше не был ни рабом, ни слугой. Даже слова «друг» или «родной брат» казались неподходящими. Не существовало слова, которое могло бы передать, кем для него стал Орест.
— Орест волен называть меня так, как ему нравится, — сказал Аттила и взглянул на Чаната. — Но только он.
Старый воин не мог согласиться с этим, но ничего не ответил.
Ближе к краю большого круга с палатками они остановились и осмотрели загон для лошадей. Наверное, там находилось около тысячи животных — припавших к земле, неуклюжих, с огромными головами и толстыми шеями, с толстым брюхом и короткими, но крепкими ногами. Быстрые, как лань, выносливые, как мул…
— Вот в чем сила гуннов, — прошептал Аттила.
— Мир узнает нас по нашим лошадям и стрелам, — сказал Чанат.
Кони тихо заржали и зафыркали в загоне, втягивая носом ночной воздух. От низкой луны первых сумеречных часов падал серебряный свет на их спины и шероховатую подстриженную гриву. Аттила повернул лицо на приятный лошадиный запах и вдохнул.
Тишину нарушил звук голоса, и в такую ночь, полную обещаний и ожиданий, он поразил Аттилу. Песня оказалась печальной, почти скорбной. Каган повернулся и приблизился к палатке, откуда доносилась музыка. Это был голос женщины, мягкий и низкий. Гунн медленно двинулся сквозь темноту и увидел, как она сидит возле входа в простую палатку, и на ее руках спит младенец. Еще один ребенок двух или трех лет, задремав, прилег на одеяла поблизости, а три или четыре женщины расположились позади, образовав полукруг. Она пела: