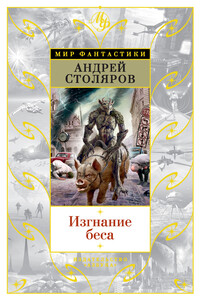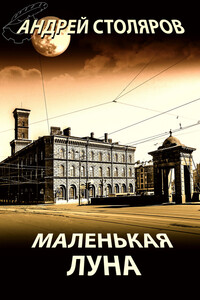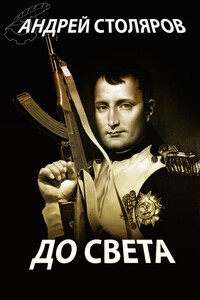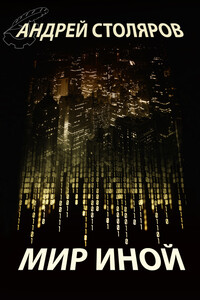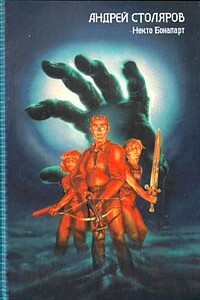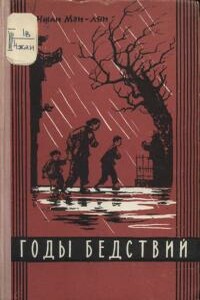Мы, народ... | страница 67
Где было взять время для этого? Месяца три, уже совершенно отчаявшись, он даже пытался освоить несколько, на его взгляд, сомнительную методику «работы во сне». Тоже прочитал в одной из популярных медицинских статей, что если непосредственно в момент засыпания как можно ярче, во всех деталях представить себе проблемный материал, то осмысление его будет продолжаться всю ночь, на уровне подсознания, независимо ни от чего. Решение рано или поздно выскочит. Так Гендель услышал во сне несколько лучших своих сонат, и так Менделеев тоже во сне прозрел таблицу периодических элементов.
Однако здесь присутствовала опасная составляющая. Стоило ему пересечь некую невидимую черту, стоило выйти за грань, вероятно, для каждого человека индивидуальную, как он начинал думать по-настоящему: вместо расслабленных грез, возникали вполне интересные соображения, вместо мечтаний – внятные логические конструкции. Причем, вопреки желанию, они сами связывались между собой, выстраивались, преобразовывались, требовали пристального внимания: сон пропадал, мозг начинал пылать, заснуть в ближайшие два – три часа было уже немыслимо. Утром, соответственно, было не встать. В общем, от подобных экспериментов пришлось отказаться.
Больше всего его раздражало то, что надо было тратить время и силы на какие-то дурацкие вещи. Например, на сверку цитат, выписанных в свое время бог знает откуда, на сверку инициалов, на сверку страниц с обязательным указанием их номеров. А уж если, скажем, требовалось сопоставить свои собственные соображения с соображениями, например, старика Макгрейва, то лишь при мысли об этом в затылке у него начинало колоть толстой тупой иглой. Целых два вечера листать неподъемный талмуд, вчитываться в разделы, параграфы, мучаться от мелкого шрифта, возвращаться к середине, к началу, открывать наугад, а потом вдруг понять, что данные соображения скорее всего не отсюда. Это скорее всего у Госслера в «Квантовой биохимии», или в известном двухтомнике Крайтона и Босье. Может быть, даже у Коломийца вычитано.
Это тоже доводило его буквально до бешенства. Почему на Западе ученый, занимающийся экспериментальными изысканиями, имеет в своем распоряжении вспомогательный персонал: по крайней мере двух лаборантов, на которых он может переложить рутинную часть работы? А у нас – один лаборант на троих. Да и то, поручить ему что-нибудь – проще уж самому.
Этого он абсолютно не понимал. Тем более, что в качестве штатного сотрудника кафедры он теперь должен был делать множество разнообразных вещей: читать, например, спецкурс по сравнительной эмбриологии, проводить практикумы со студентами, принимать зачеты, присутствовать на экзаменах. Это тоже отнимало у него массу времени. Массу времени, массу сил, собственно – жизнь. Ведь не так уж ее у человека и много. И бывало, что осенними или зимними вечерами, возвращаясь из университета, особенно после утомительных занятий с вечерниками, прикрываясь на Дворцовом мосту от снега или дождя, он испытывал приступы разрушительного смятения. Дни рассеиваются, недели испаряются без остатка, жизнь проходит, накапливая в душе лишь ядовитый туман, все, по-видимому, безнадежно, он ничего не успеет, он, наверное, взялся за дело, которое сверх его сил.