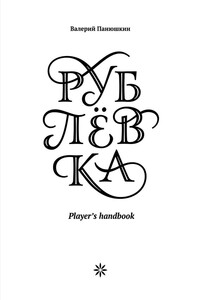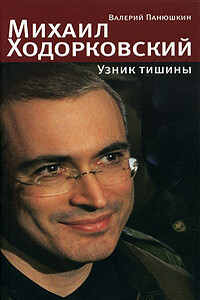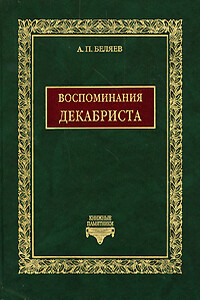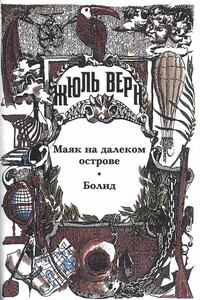Восстание потребителей | страница 87
Такая же ситуация сложилась к началу 2000-х в России на политическом рынке, рынке услуг государства. Государство монополизировало политику, и политика стала дефицитной. Граждане, то есть потребители услуг государства, получали законы, какие дадут, и налогов должны были платить сколько велено. В этом смысле рынок государственных услуг регулировался только мошенничеством: граждане в меру сил нелегально или полулегально от налогов уходили, а государство придумывало все новые и новые способы заставить граждан платить налоги так, чтобы граждане при этом не понимали толком, сколько именно они платят. Социальный налог, например, обязали платить не граждан непосредственно, а их работодателей. Граждане всерьез думали, будто платят только тринадцать процентов подоходного налога, а не сорок почти процентов подоходного налога и социального. Дорожный налог бережно спрятали в цену на бензин. Налог на автомобили закамуфлировали под обязательную страховку гражданской ответственности.
Граждане, то есть потребители услуг государства, возопили к началу 2000-х: долой олигархов! Но не было устроено антиолигархических институтов и не было принято антиолигархических законов, потому что граждане не хотели платить за это, а если бы и захотели, то не знали бы, как и кому. Вместо институтов и законов на рынок услуг государства под лозунгом борьбы с олигархами пришло само государство и устроило дефицитную политику или, иными словами, дефицит услуг, которые оказывает государство населению. Это было так же разумно, как если бы за соблюдением прав потребителей в супермаркете следил бы директор супермаркета и больше никто.
Как в советской дефицитной экономике на рынке хозяйничал продавец, а потребитель не имел ни выбора, ни прав, так и в российской дефицитной политике 2000-х на рынке государственных услуг населению хозяйничал продавец этих услуг, государственный чиновник. А потребитель государственных услуг, то есть гражданин, прав не имел, и возможность выбирать для него сокращалась год от года. Потребителю услуг государства предстояло, например, лишиться права выбирать губернаторов, потом предстояло смириться с тем, что будет радикально сокращен ассортимент политических партий, потом предстояло смириться еще и с тем, что в избирательных бюллетенях отменена графа «против всех», то есть нельзя отказаться от покупки.
Граждане, впрочем, не очень унывали. За двадцать лет потребительской революции потребителями товаров и услуг люди ощущать себя научились, а потребителями услуг государства, то есть гражданами, — нет. Потребительская революция свершилась: мобильный телефон, например, перестал быть предметом роскоши, доступным лишь очень богатым людям в столице, и превратился в простой предмет обихода, доступный даже и в отдаленных деревнях, даже детям и пенсионерам. Автомобиль стал всего лишь средством передвижения. Джинсы стали всего лишь одеждой. Люди были довольны этим. Люди поддерживали власть, при которой росло потребление. Потребительская революция свершилась, но это не значило, что вместе с нею совершилась и демократическая революция. Скорее всего, это потому так случилось, что демократической революции широкие массы российского населения и не хотели никогда. Скорее всего, на рубеже 80-х и 90-х, когда люди выходили на митинги и кричали «Свобода! Демократия!», они подразумевали под этими словами колбасу и штаны. Колбасу и штаны они получили, а права свободно выбирать услуги государства и чиновников, оказывающих эти услуги, может быть, и не хотели получить, предпочитая относиться к чиновникам, как в советское время относились к продавцам — с покорностью, заискиванием и некоторым даже священным трепетом.