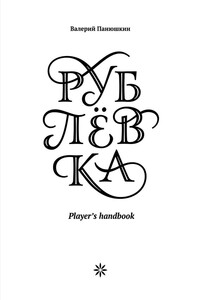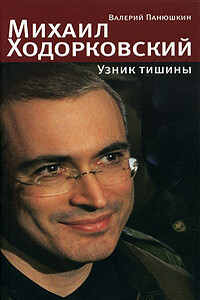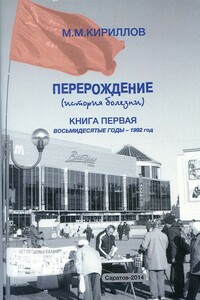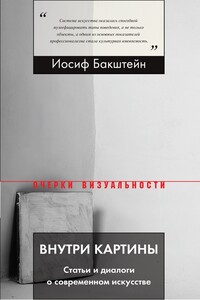Восстание потребителей | страница 16
Договорившись, Шелищ, Бочин, Аузан и другие разработчики альтернативного законопроекта, образовывавшие своего рода клуб консюмеристов-мечтателей, статью за статьей разобрали госстандартовский законопроект и статью за статьей отвергли. Дальше началась известная из русского фольклора история про суп из топора. Номинально альтернативные разработчики поправляли правительственный законопроект и вносили свои предложения, на самом же деле они писали совершенно новый закон, предназначенный не для того общественного строя, который имел место, а для того общественного строя, который только имел быть.
Адвокат Диана Сорк, учившаяся тогда на третьем курсе юридического факультета МГУ и привлеченная к разработке закона за то, что умела печатать на компьютере, в то время как разработчики закона хорошо если умели на пишущей машинке, вспоминает: сомнению подвергалось все, начиная с самого термина «потребитель». В госстандартовском законопроекте потребитель определялся как гражданин, приобретающий товар исключительно для личных нужд или нужд своей семьи. Диана не помнит уже, кто именно и что именно кричал, но помнит, что кричали. Александр Аузан, например, размахивая дымящейся дешевой сигаретой «Дымок», хотя и так уже в комнате можно было топор вешать, вопрошал:
«А если он не для своей семьи товар приобретает, а для чужой, он что, уже не потребитель? Если он на день рождения идет и утюг в подарок покупает? А если он на работу хочет электрический чайник купить?»
«А если, — вторил, например, Петр Шелищ, — если он не гражданин вовсе, а иностранец? Приехал в Москву и пошел купить себе в магазине бритву. Он что, не потребитель?»
«А если, — высказывал совсем уж революционную мысль, например, Леонид Бочин, — если он вообще не товар приобретает, а услугу? Он что, разве не потребитель тогда?»
Диана протоколировала эти их заседания в крохотной комнатке на Солянке, и целый огромный мир потребительского права открывался перед нею. И она еще не знала, что именно этому разделу права посвятит более или менее всю жизнь. И уж тем более не понимала, что именно упоминание в альтернативном законопроекте не только товаров, но и услуг сделает этот законопроект, безусловно, выигрышным в глазах широкой публики, депутатов Верховного Совета и даже самих чиновников, придумавших разрабатывать закон о качестве.
Дело в том, что с отсутствием или недостатком товаров советские граждане более или менее смирились. А вот отсутствие услуг злило по-настоящему. Предположим, человек пять лет стоял в очереди за холодильником «Бирюса» (или, совсем уже для богатых, «Розенлев»). Покупал наконец вожделенный холодильник, а через месяц тот ломался. Приходилось за свои деньги нанимать грузчиков и тащить холодильник в мастерскую. Там холодильник чинили, владелец при помощи нанятых грузчиков или веселых приятелей тащил холодильник домой. А тот опять ломался. И опять его надо было тащить в мастерскую. И не было никакого закона, по которому можно было бы потребовать замену негодной бытовой техники. И месяцами приходилось ждать дефицитных запчастей. И гарантийные мастерские никак не гарантировали, что отремонтируют технику качественно. Подобное происходило и с телевизорами, и с автомобилями, и с одеждой, и с обувью. Это понимали и владельцы скромного холодильника «Бирюса», и владельцы элитного по тем временам «Розенлева». Таким образом, уточнение про услуги в самом определении термина «потребитель» создало разработчикам альтернативного законопроекта репутацию настоящих специалистов, которые по-настоящему разбираются в вопросе, раз уж додумались, что потребитель имеет право не только на качество товаров, но и на качество услуг.