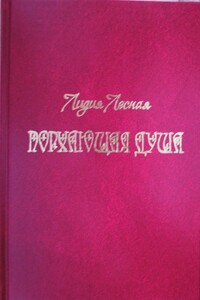Милосердная дорога | страница 26
Охарактеризовать чтение Блока так же трудно, как описать его наружность. Простота — отличительное свойство этого чтения. Простота — в полном отсутствии каких бы то ни было жестов, игры лица, повышений и понижений тона. И простота — как явственный, звуковой итог бесконечно сложной, бездонно глубокой жизни, тут же, в процессе чтения стихов, созидаемой и утверждающейся. Ни декламации, ни поэтичности, ни ударного пафоса отдельных слов и движений. Ничего условно-актерского, эстрадного. Каждое слово, каждый звук окрашены только изнутри, из глубины наново переживающей души. В тесном дружеском кругу, в случайном собрании поэтов, с эстрады концертного зала читал Блок одинаково, просто и внятно обращаясь к каждому из слушателей — и всех очаровывая.
Так было и в тот памятный день. Названные мною три стихотворения — и «Незнакомка» по преимуществу — были началом, сердцем новой эры его творчества; из них вышла «Нечаянная Радость». Помню, «Незнакомка», недавно написанная и прослушанная нами весенним вечером, в обстановке «загородных дач», после долгой прогулки по пыльным улицам Лесного, произвела на всех мучительно-тревожное и радостное впечатление, и Блок, по просьбе нашей, читал эти стихи вновь и вновь.
Вслед за тем читали другие; но из прослушанного ничего не запомнилось, да и слушать не хотелось. Настроение, приподнятое вначале, улеглось; разговоры повелись шепотом. А.А. с обычной готовностью записал кое-кому стихи в альбомы и с улыбкою подошел ко мне — благодарить за только что присланные стихи, ему посвященные. Стихи были слабые, и я чувствовал себя до крайности смущенным; не останавливаясь на них, А.А. перешел к прочитанным мною в тот вечер стихотворениям. Несколько слов его, как всегда неожиданных и внешне смутных, были для меня живым свидетельством его пристального внимания. Просто, — и я это ясно понял, — но в формах обычной литераторской общительности А.А. пригласил меня навестить его; тогда же мы условились о дне встречи, и А.А. сделал то, что часто делал и в дальнейшем и что каждый раз внушающе на меня действовало; вынул записную книжку небольшого размера и пометил в ней день и час предположенного свидания. Черта аккуратности — эта далеко не последняя черта в сложном характере Блока — впервые открылась мне.
В том году Блок переехал с квартиры в Гренадерских казармах на другую — кажется, Лахтинская, 3. Там побывал я у него впервые. Помню большую, слабо освещенную настольною электрическою лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке — фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу — тот, что и всегда, до конца дней, был с Блоком. Тишина, какое-то тонкое, неуловимое в простоте источников изящество. И у стола — хозяин, навсегда мне отныне милый. Прекрасное, бледное в полумраке лицо; широкий, мягкий отложной белый воротник и свободно сидящая суконная черная блуза — черта невинного эстетизма, сохраняемая исключительно в пределах домашней обстановки. Таким изображен он на известном фотографическом снимке того времени; таким я видел его не раз и в дальнейшем; но, насколько знаю, никогда не появлялся он в этом наряде вне дома. В кругу приятелей-поэтов, в театре, на улице был он одет, как все, в пиджачный костюм или в сюртук. И лишь иногда пышный черный бант вместо галстука заявлял о его принадлежности к художественному миру. В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные.