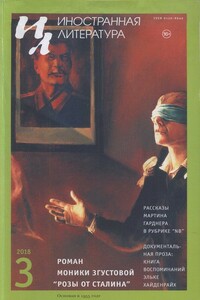Люди и фразы | страница 91
Стержень ее жизни – «просто христианство», но отнюдь не голая богословская схема, не проповедническая напористость. «Тихость», а не «важность», как учили бабушка с няней. Это стремление воплотить свою веру в переполненной суетой повседневности, держаться ее в бурном потоке истории, найти ее среди сокровищ мировой культуры и познакомить со всем этим каждого, кто захочет такого знакомства. Ее профессия – перевод, а точнее, ретрансляция тех западных проявлений христианской культуры, с которыми действительно было важно познакомиться русскому обществу конца XX века
Еще в Литве Наталья Леонидовна поставила себе целью переводить в год по 25 эссе или по одному трактату Честертона на русский, и тогда никто не мог предположить, что эти переводы будут полностью изданы, что так будет, по сути, создана целая школа по переводу английской христианской литературы XX века.
Перевод есть высокое искусство – но еще и ремесло, и порой тяжкое ремесло. Она как будто совсем не умела отказываться, и когда ей давали «на редактуру» сляпанный наспех перевод, который можно было разве что полностью переписать – безропотно переписывала за скромный редакторский гонорар, но не могла ни халтуру выпустить, ни отказаться от взятого на себя труда. Так до самого конца коллеги и не могли научить ее говорить «нет». Но, собственно, не об этом ли в Евангелии: кто принудит тебя пройти одно поприще, пройди с ним два?
А еще она – писательница. Но вышло это далеко не сразу, и сама она объясняла это так: «Я тридцать лет не писала, чтобы не попасть в мир каких-то сверхценностей. Я выросла среди тех, кто жил искусством, и поняла, что для них это сверхценность». Собственно, писательство у Натальи Леонидовны странное, это какой-то сплошной поток заметок, ассоциаций, примечаний. Она не говорит о главном, потому что о главном громко говорить просто неприлично (это бабушка и няня объяснили в раннем детстве), но можно тихонечко подвести человека к этому главному, и пусть он выбирает дальше для себя сам. «Прозой только для своих» называли порой ее книги, и это действительно было так, она не столько писала, сколько записывала (или даже за ней записывали, точно не знаю) свои воспоминания и разговоры, и эта интонация беседы сохранялась и на книжной странице. Для своих, да, но стать своим было невероятно просто – достаточно было подойти и прислушаться. Для нее, мучительно переживавшей всякую пошлость и вульгарность, не было большей вульгарности, чем рассуждения о «людях не нашего круга».